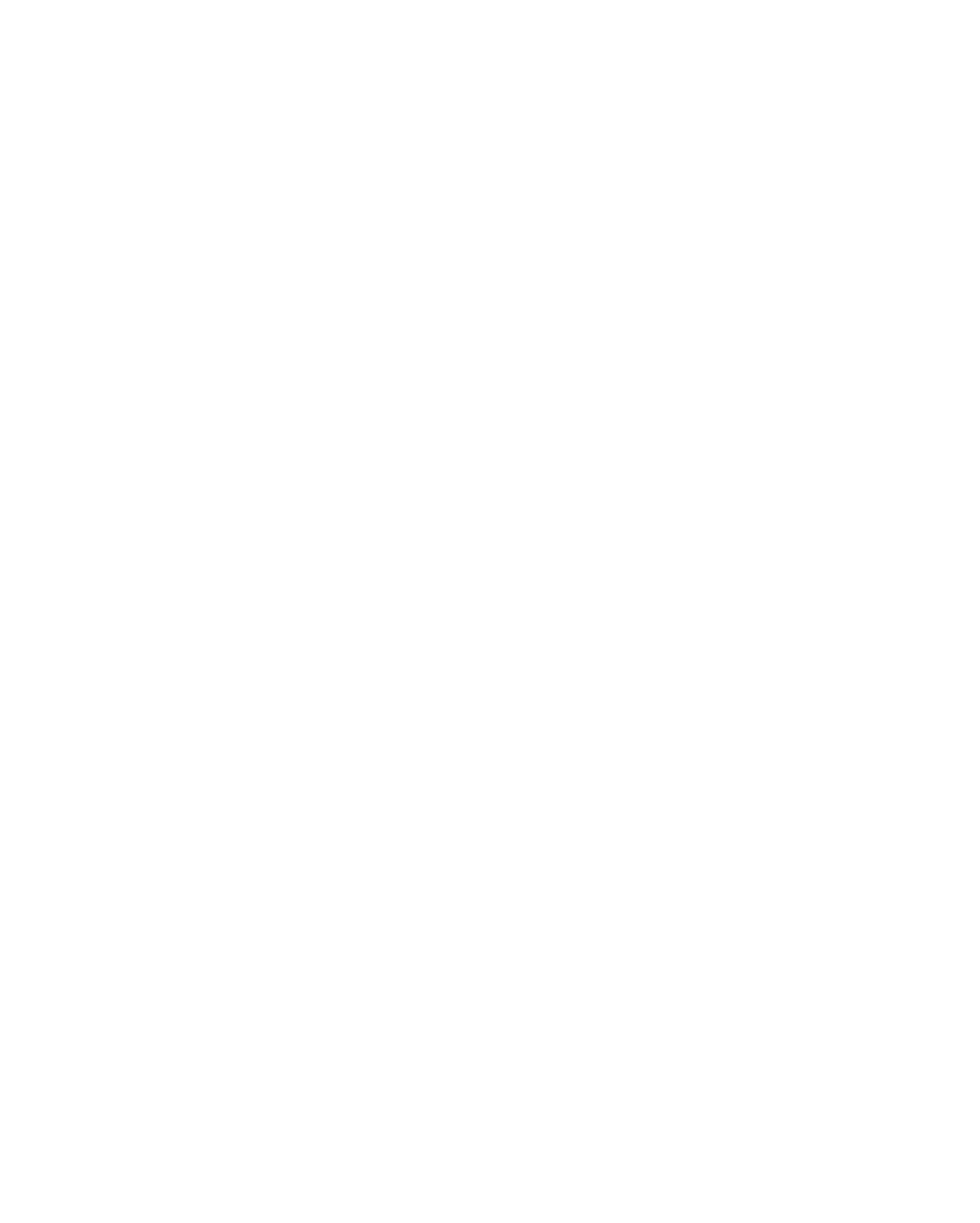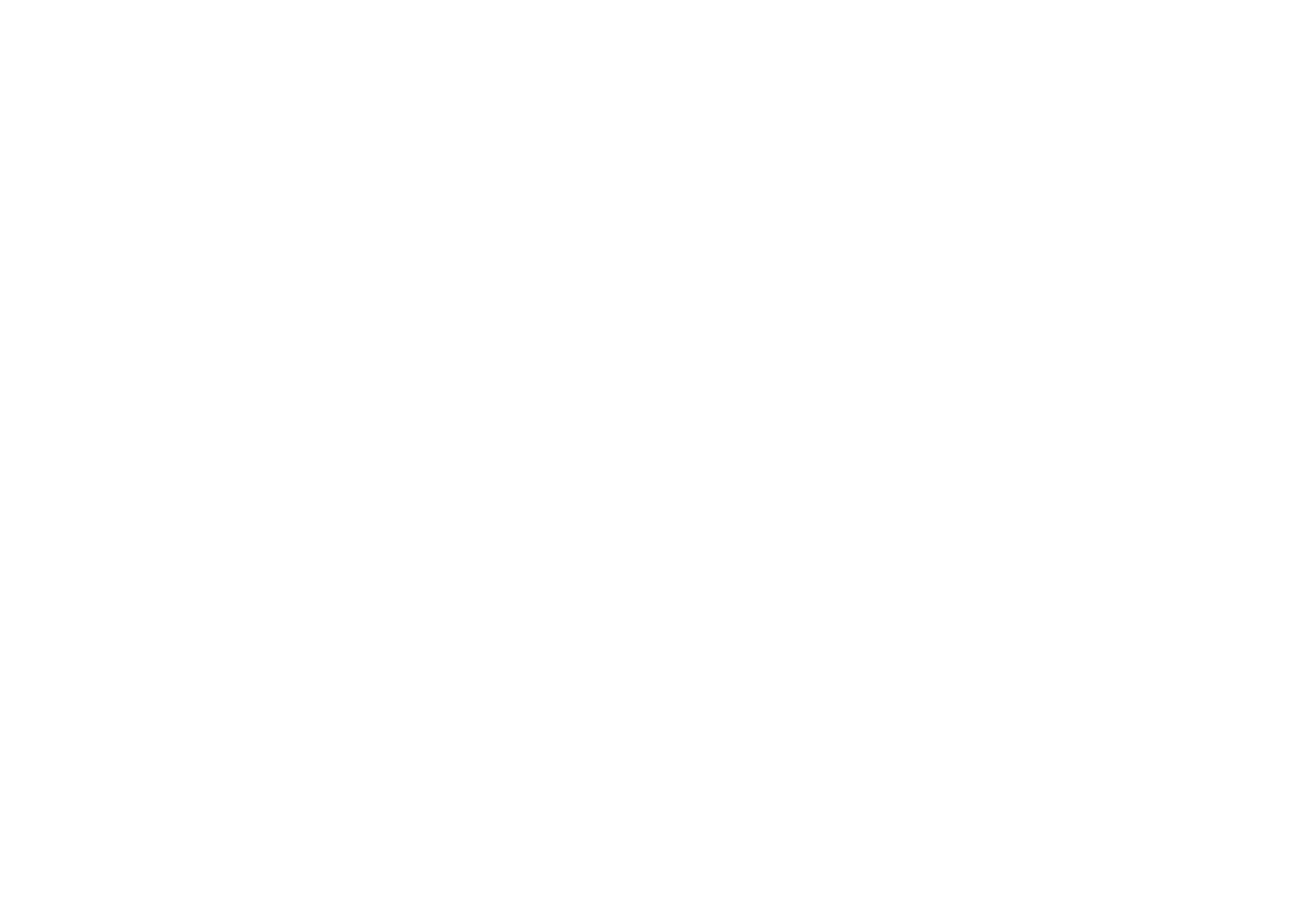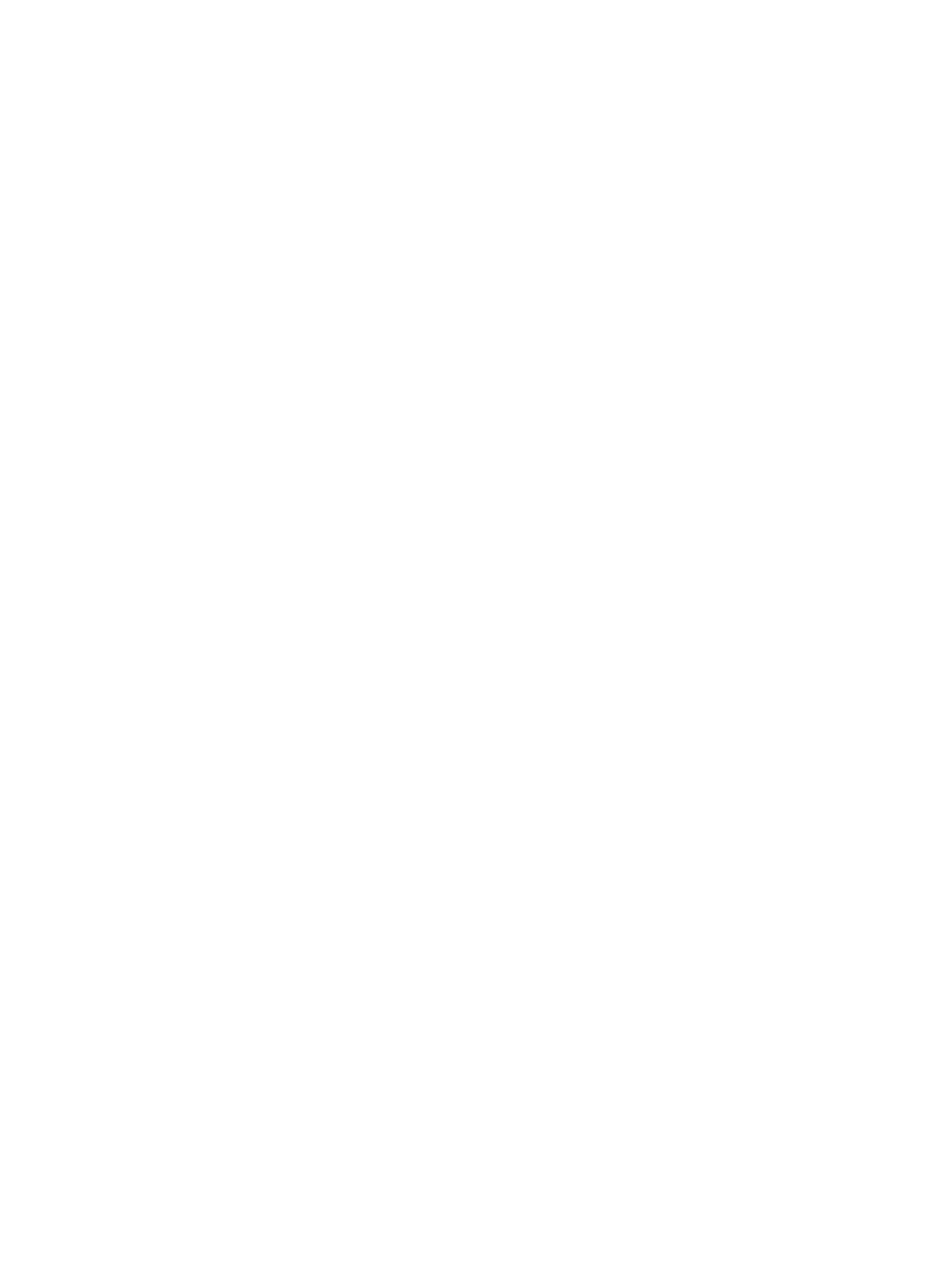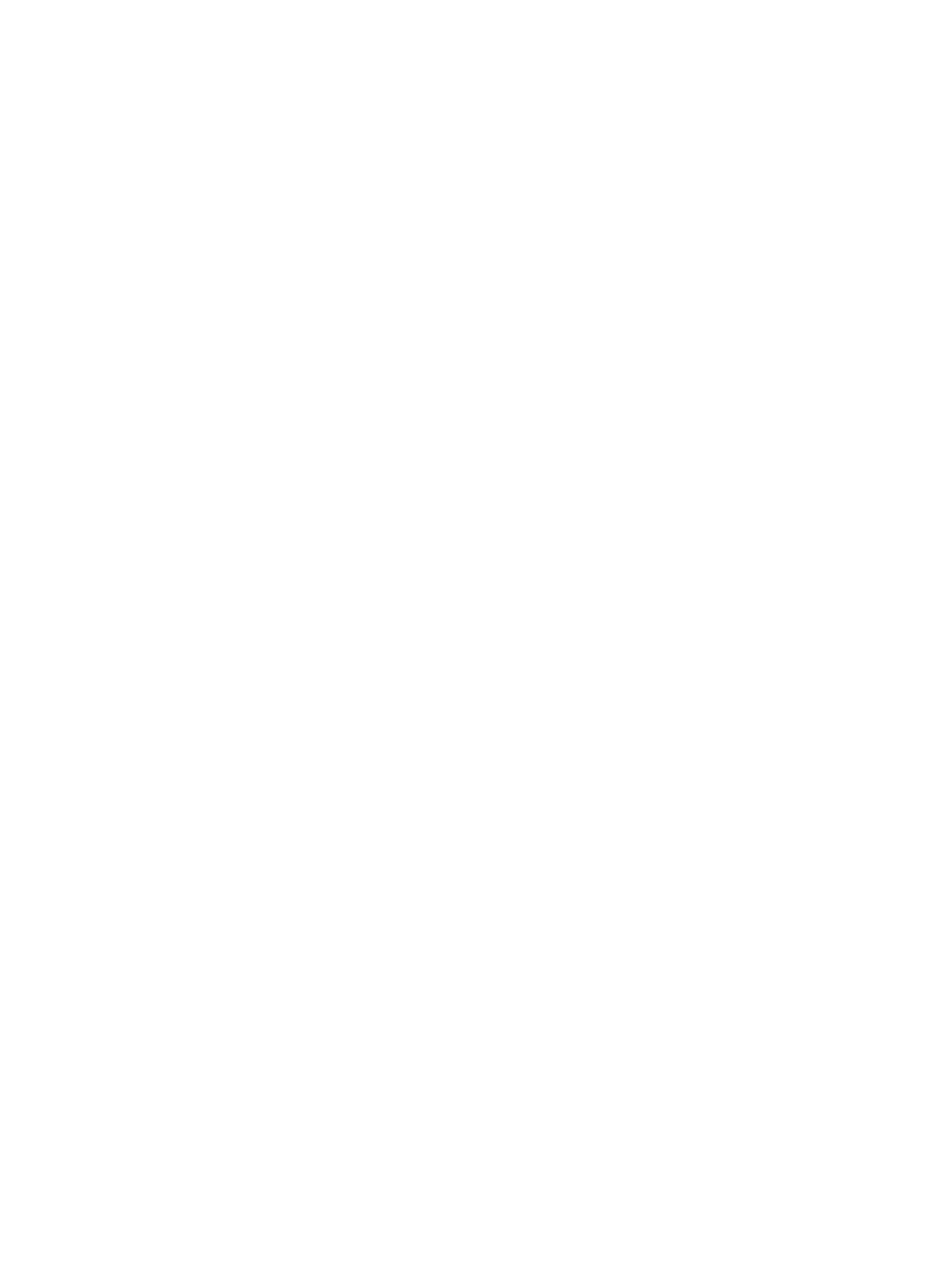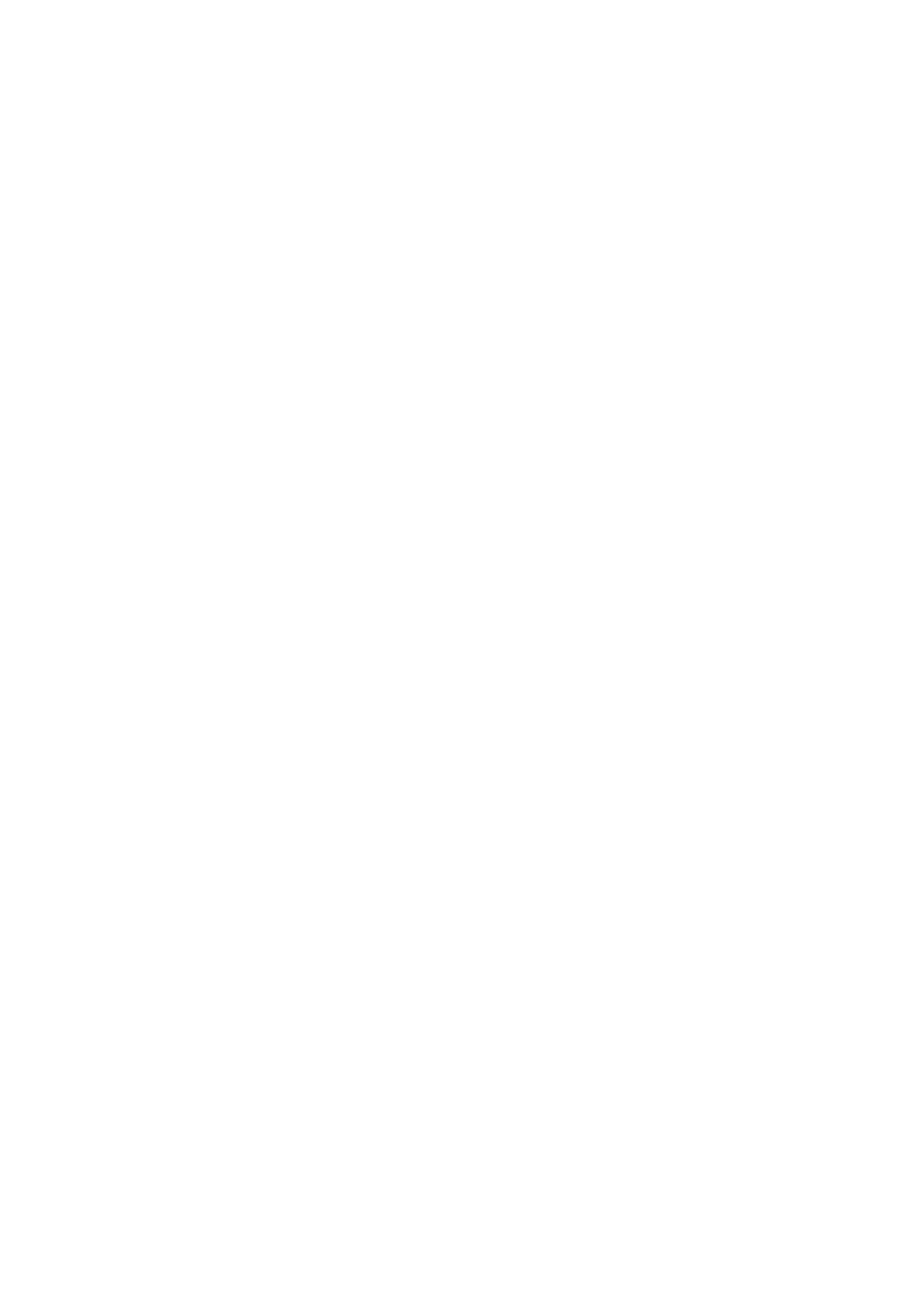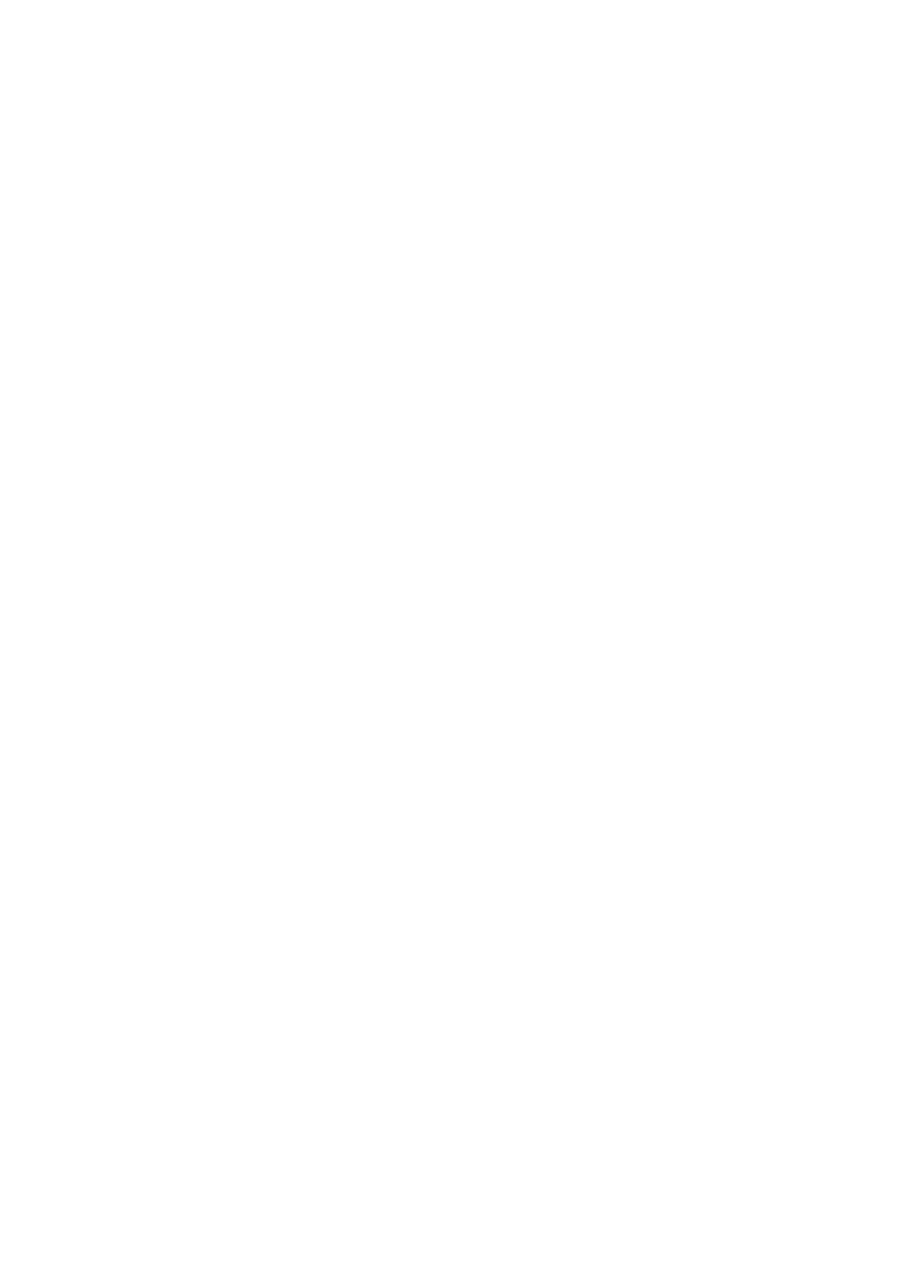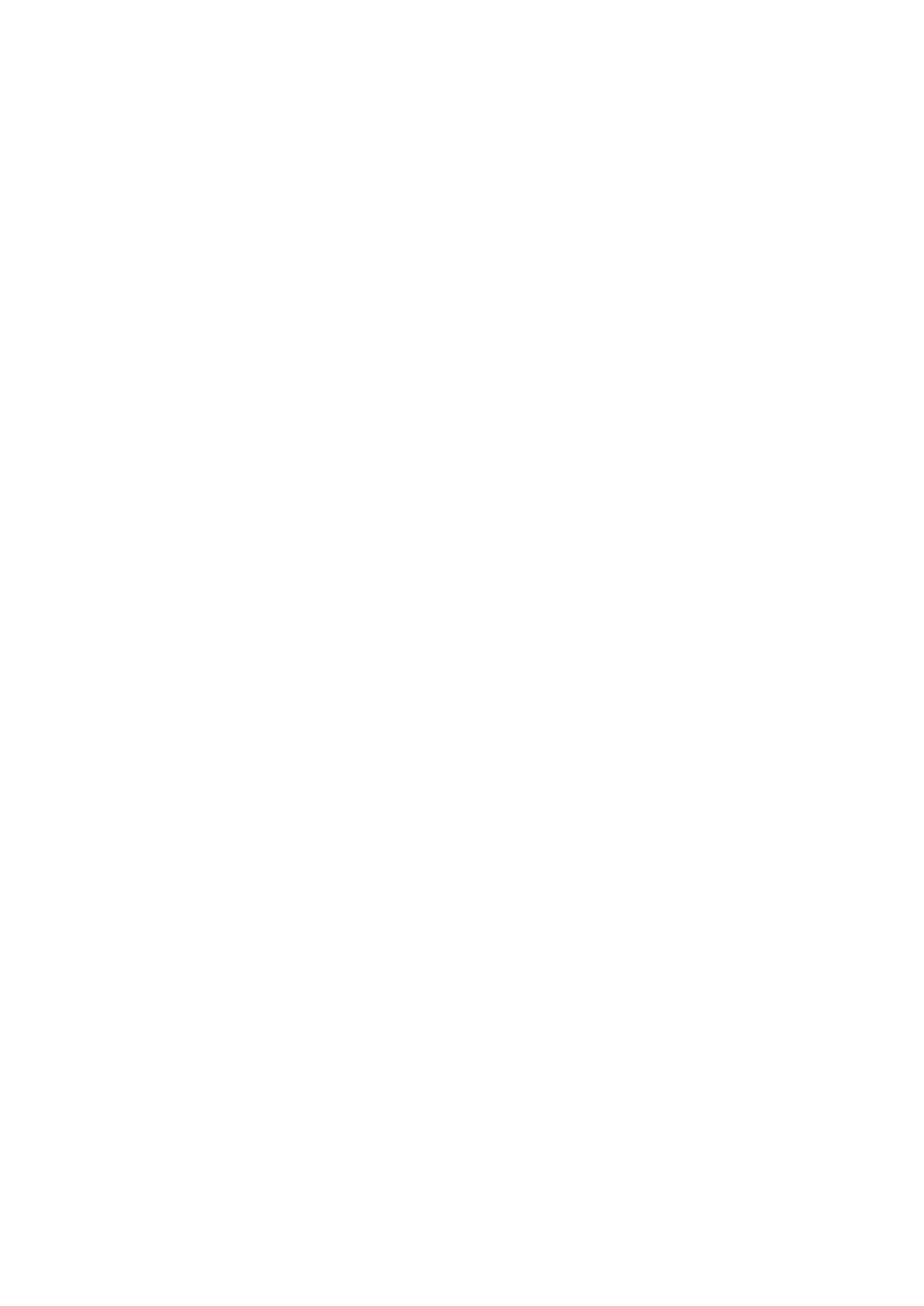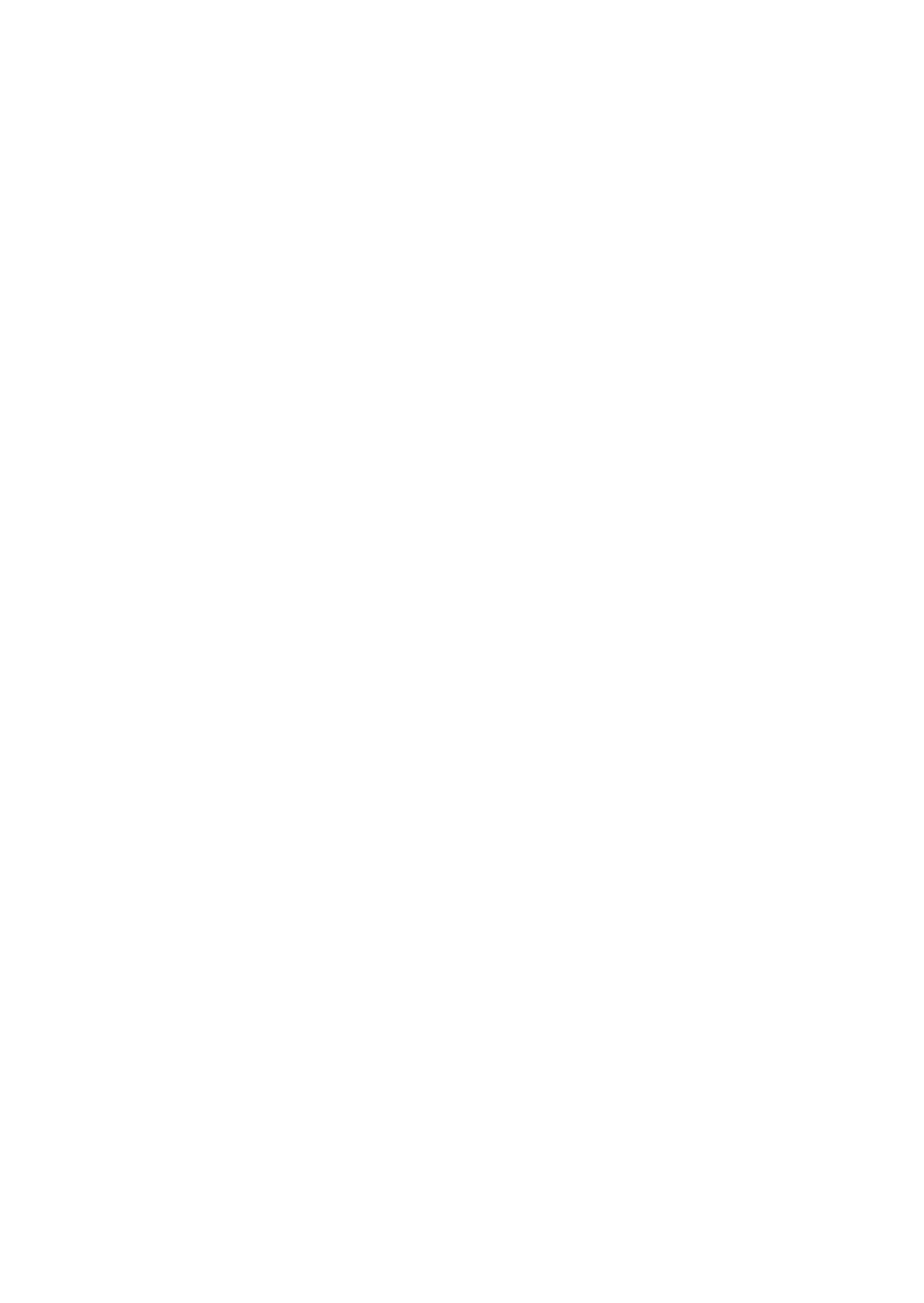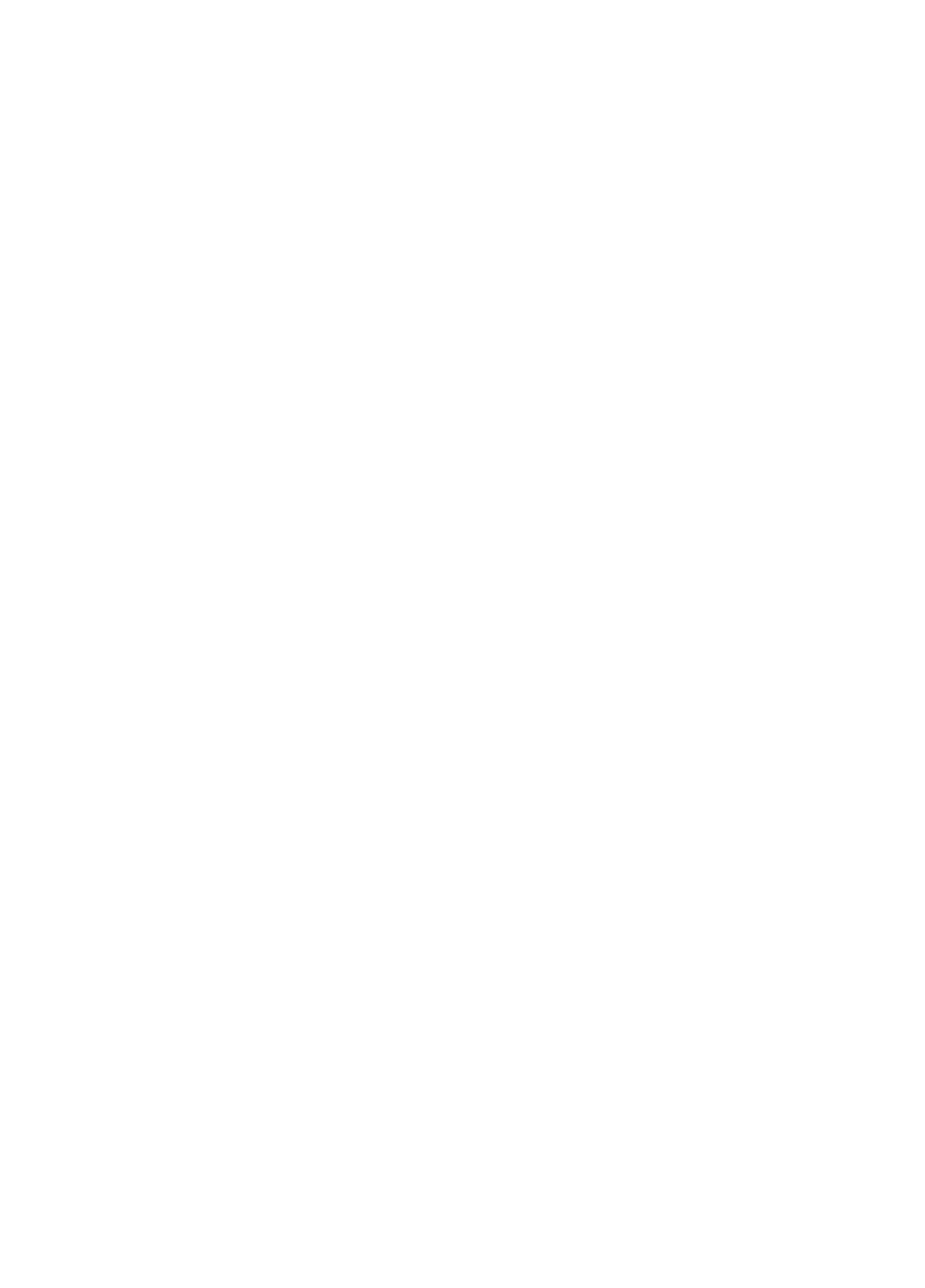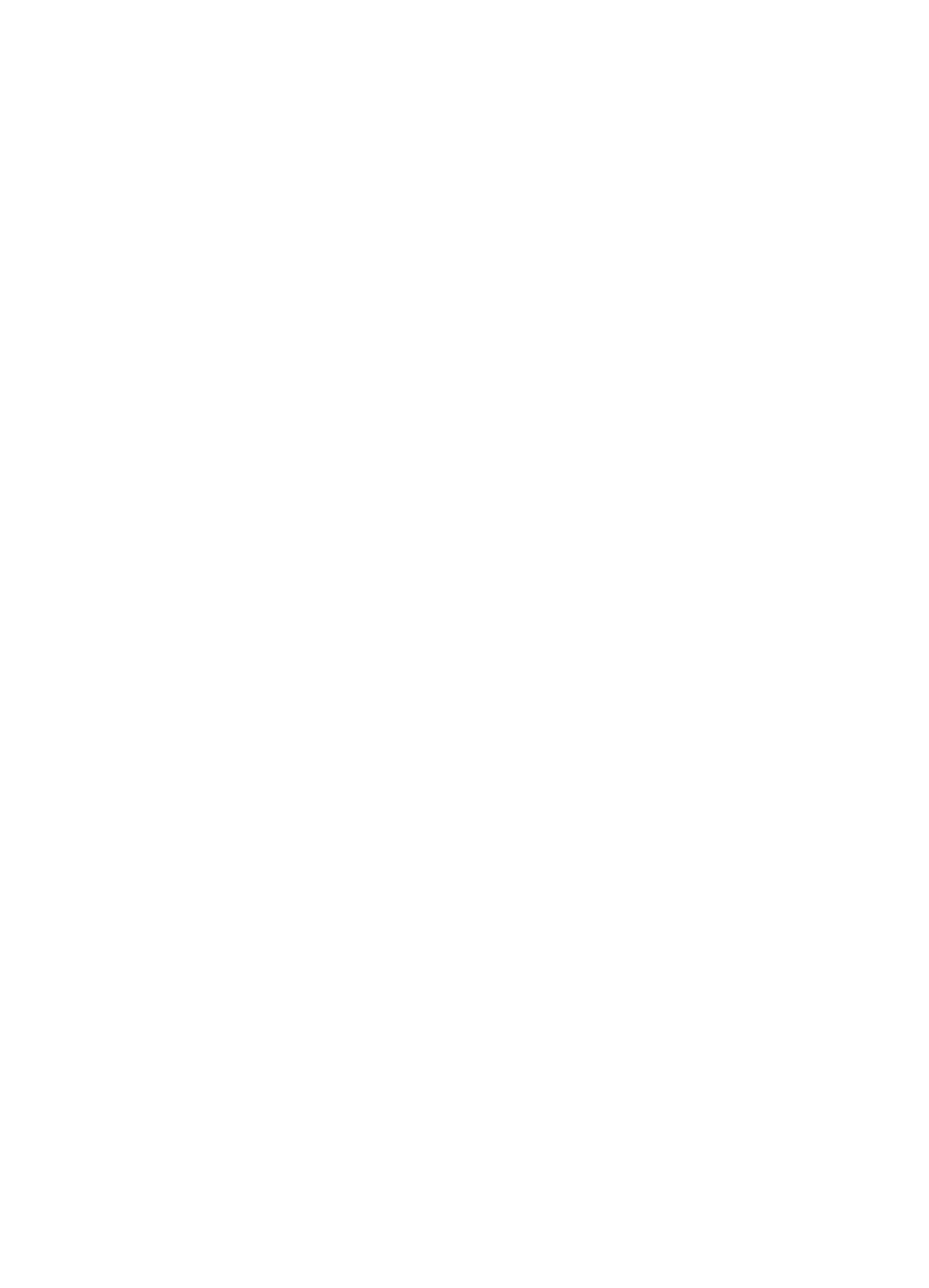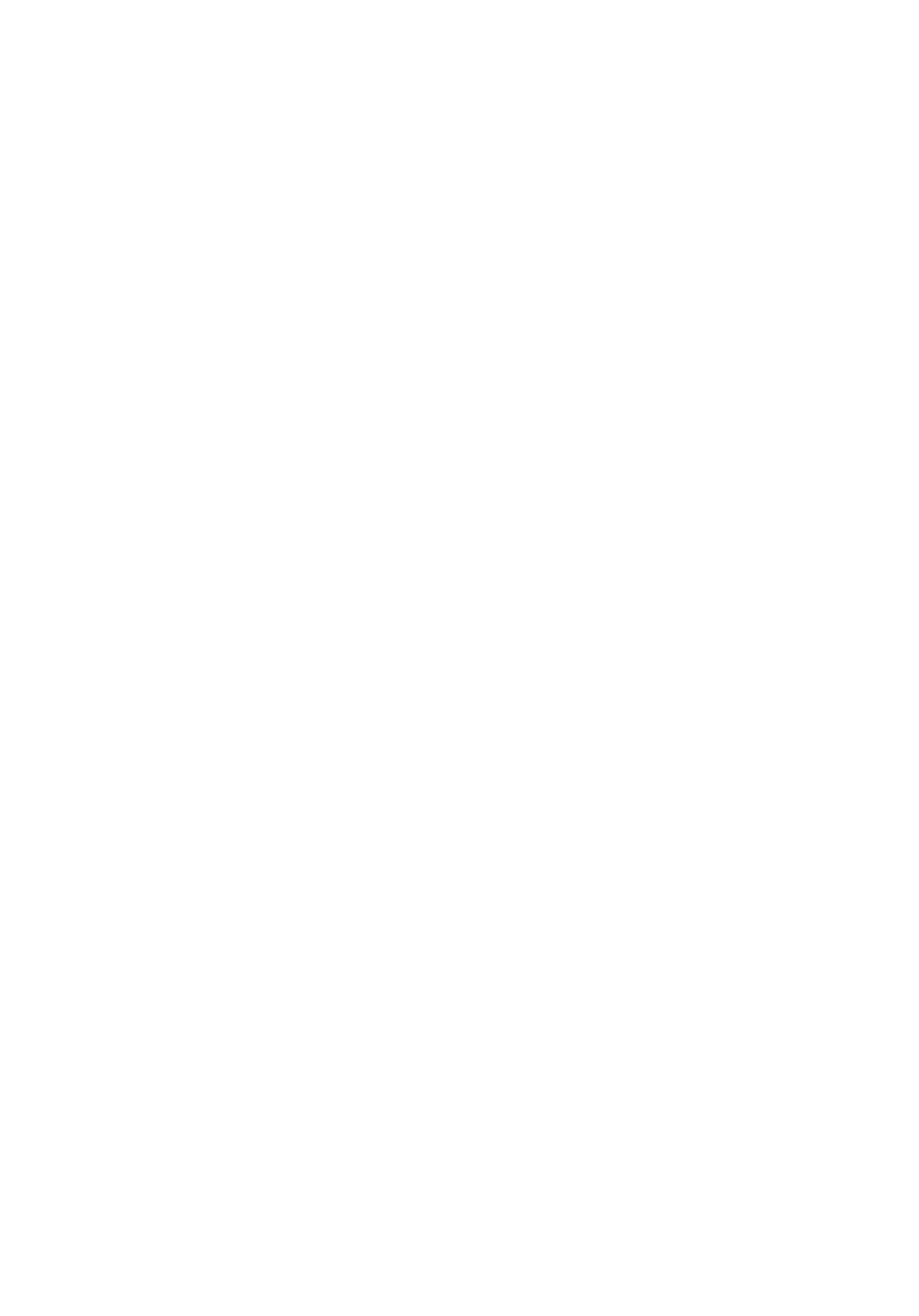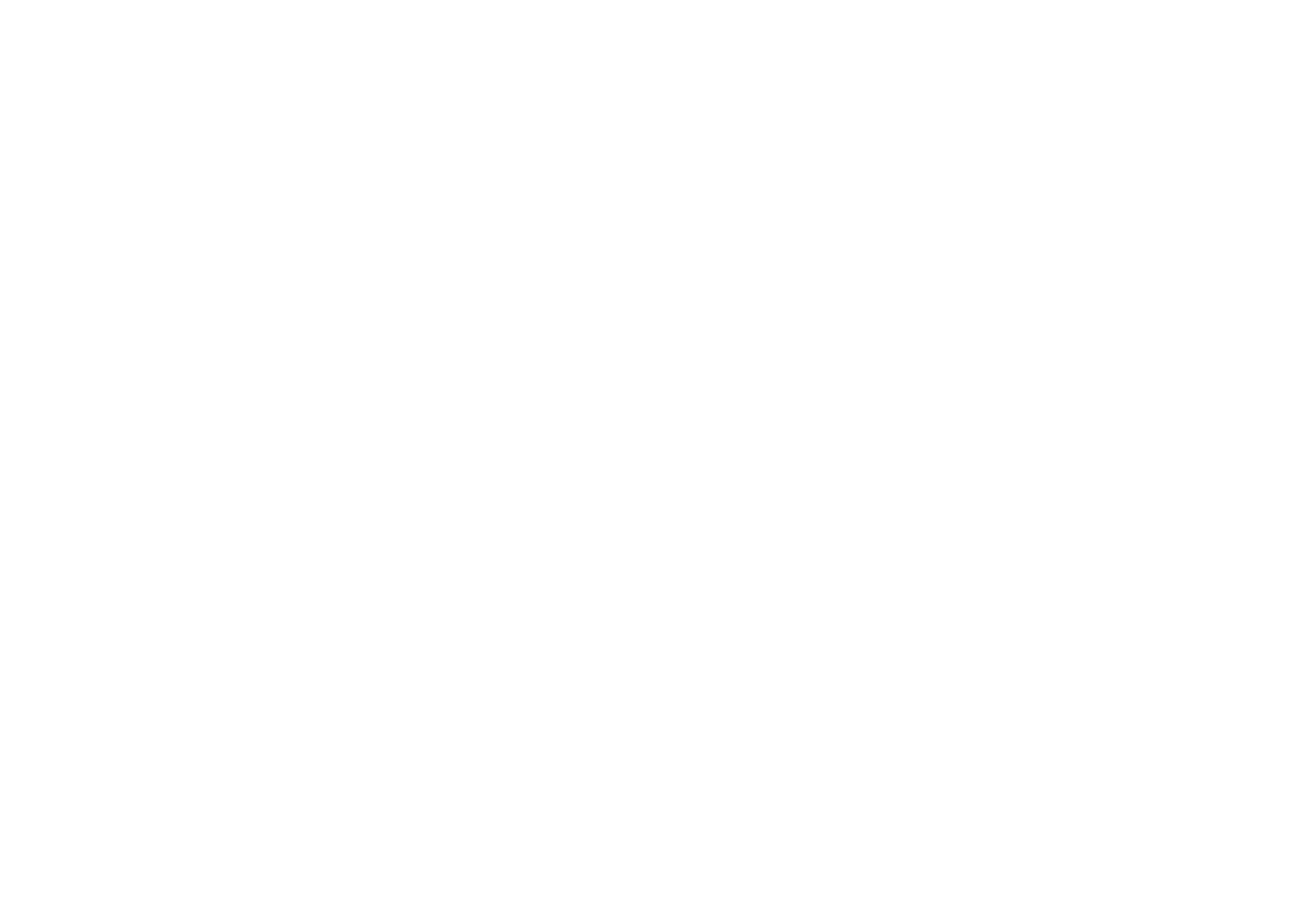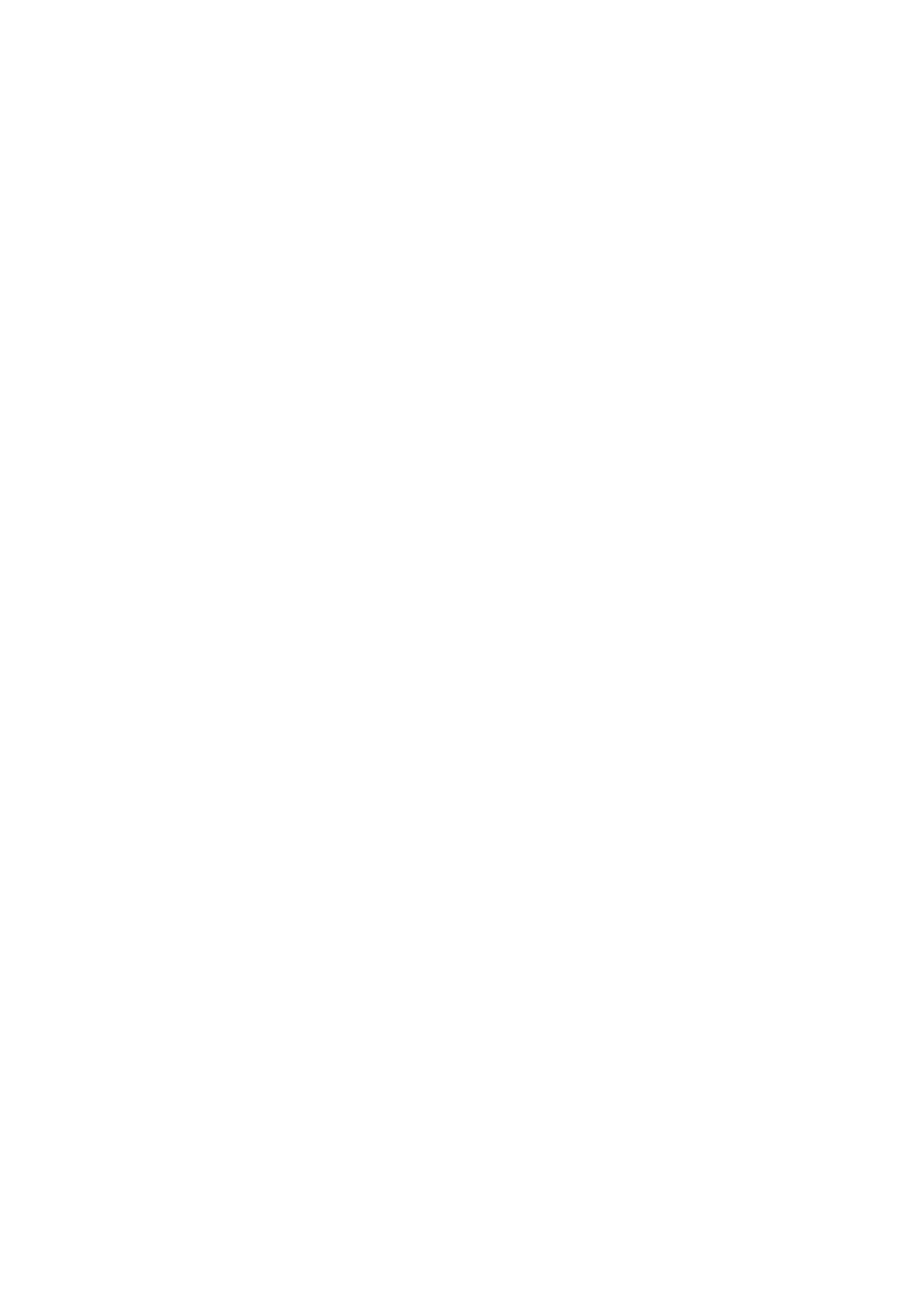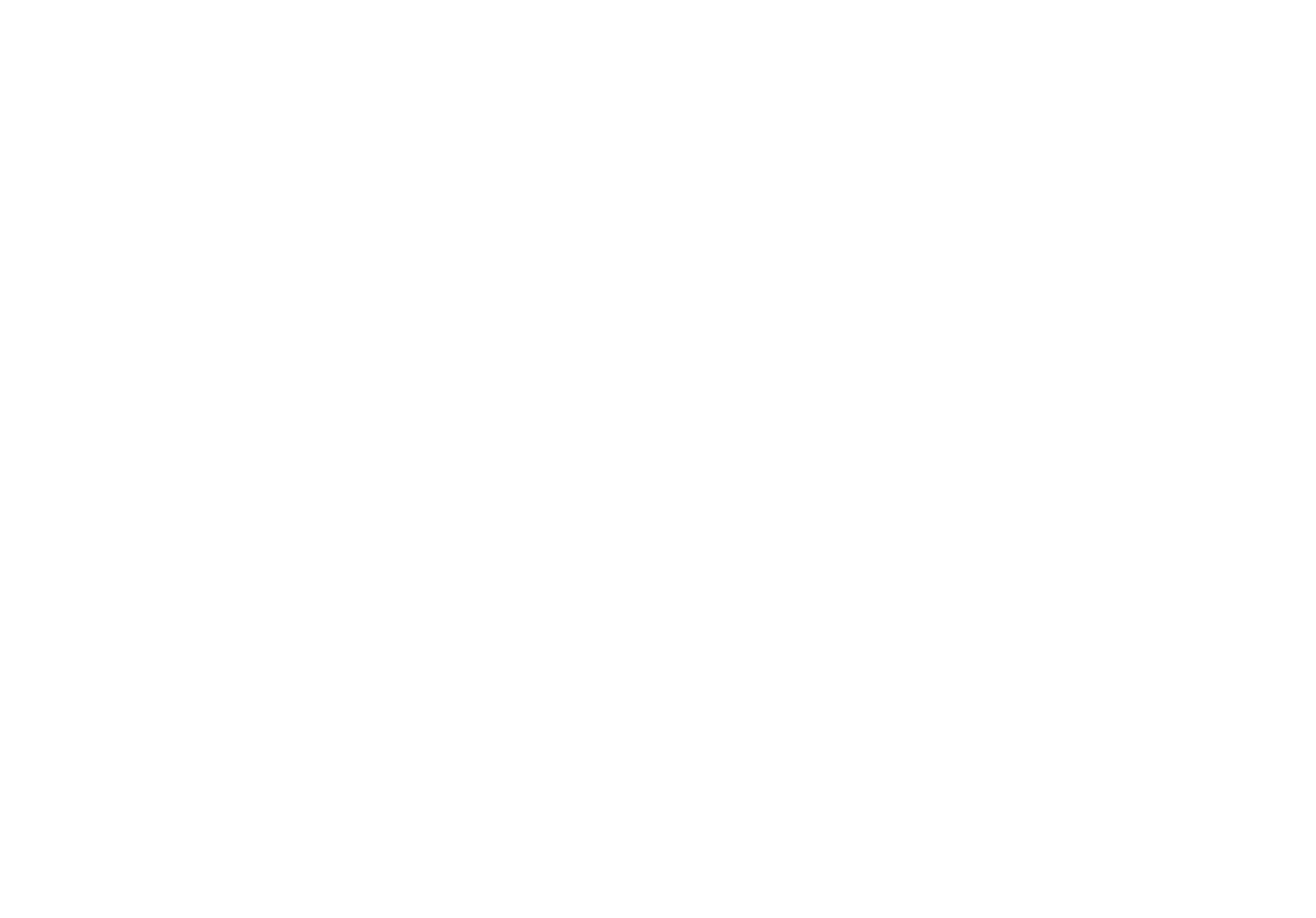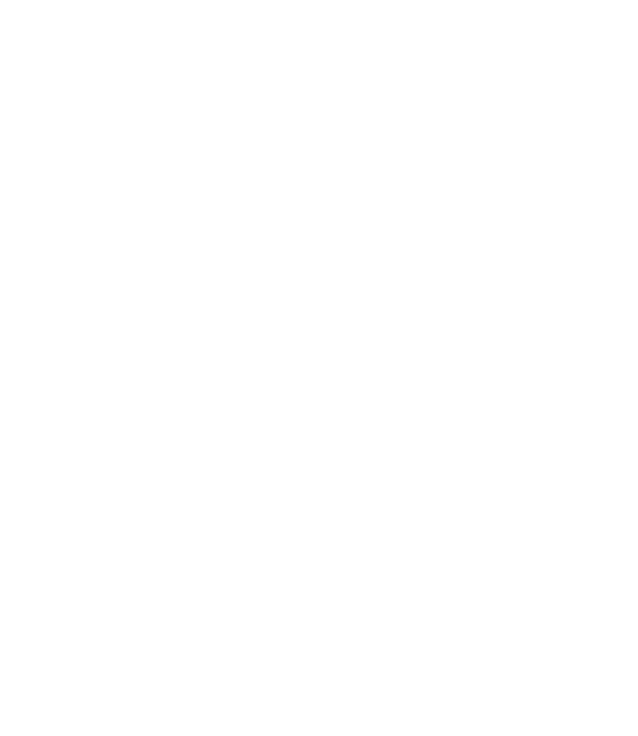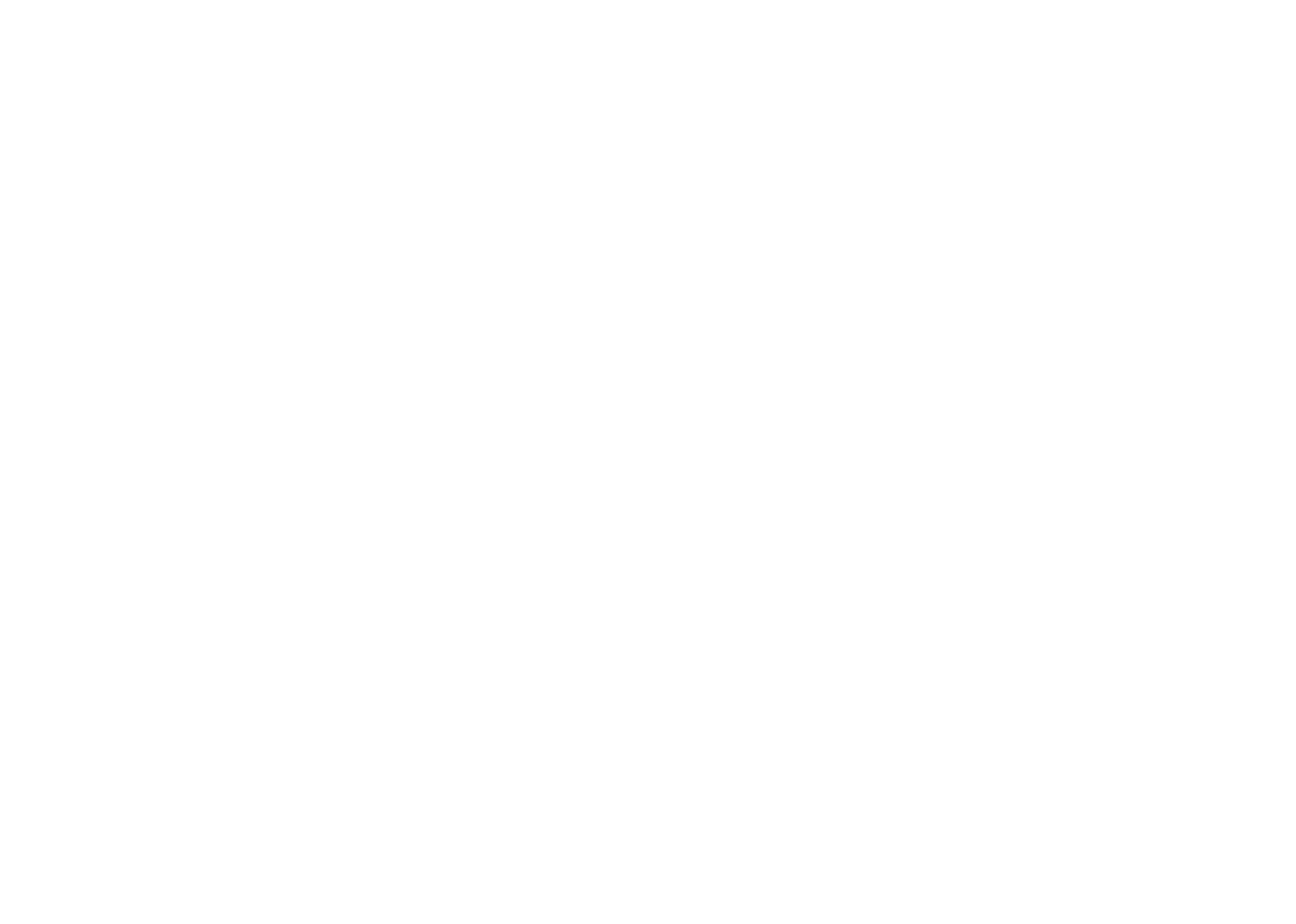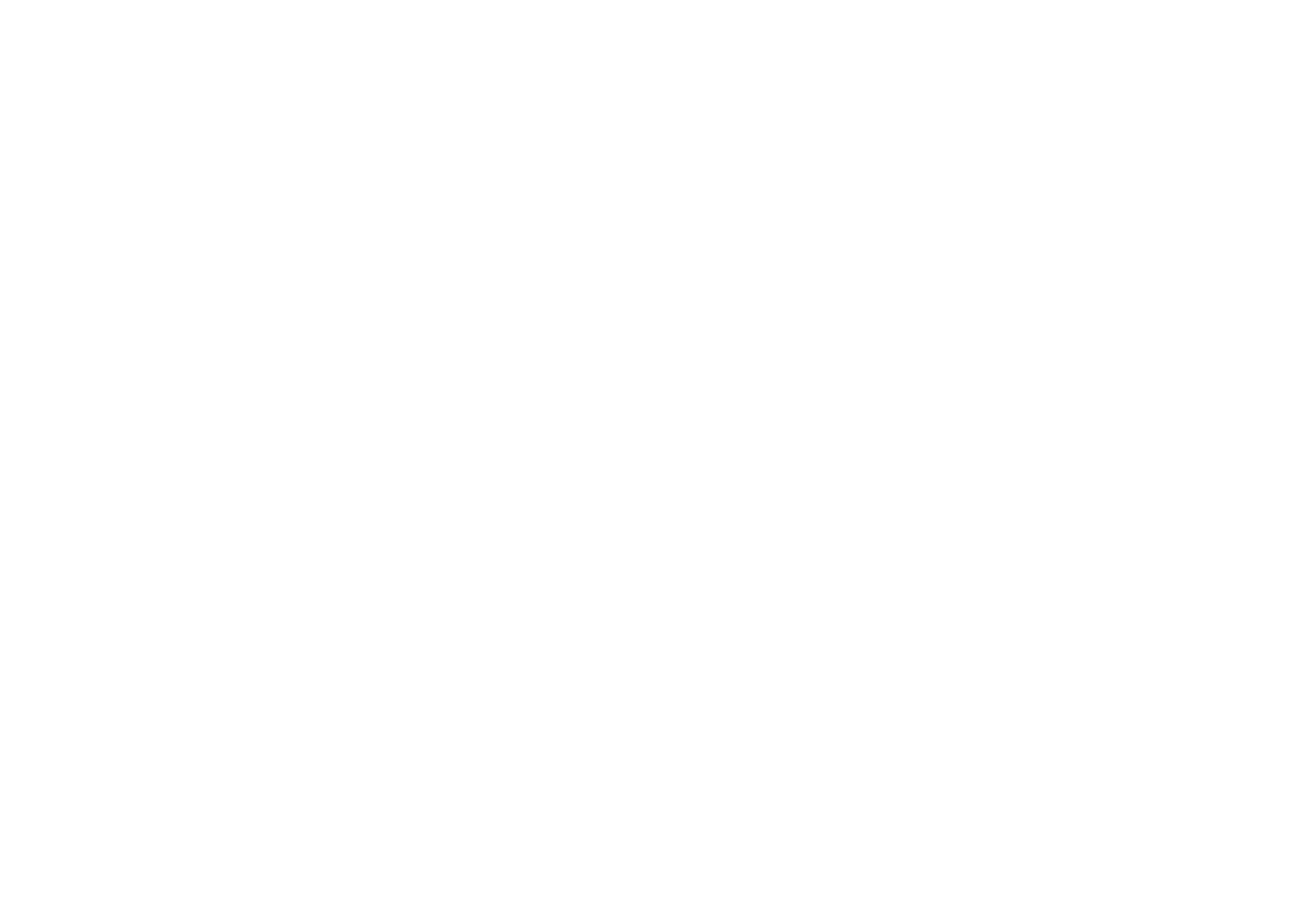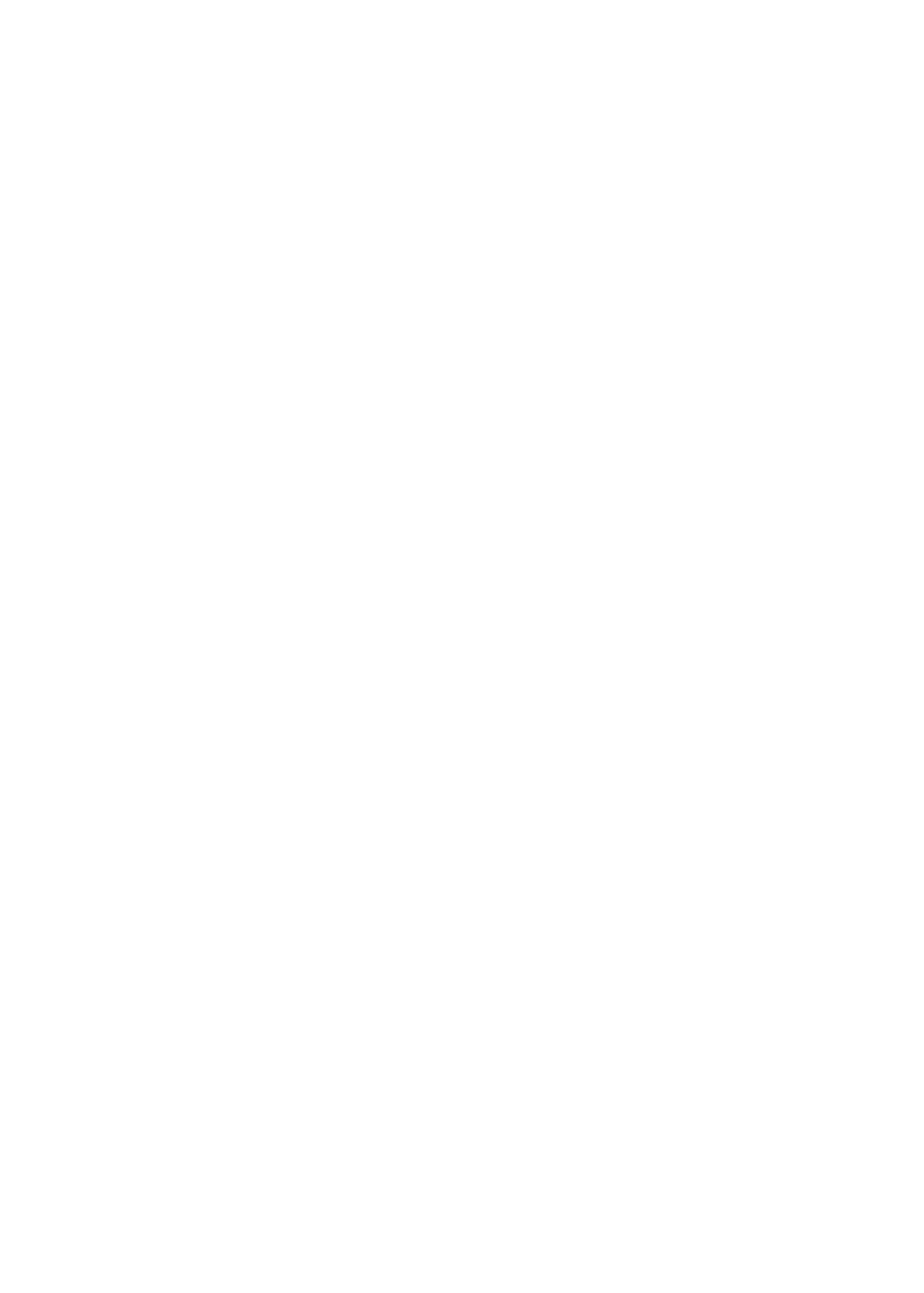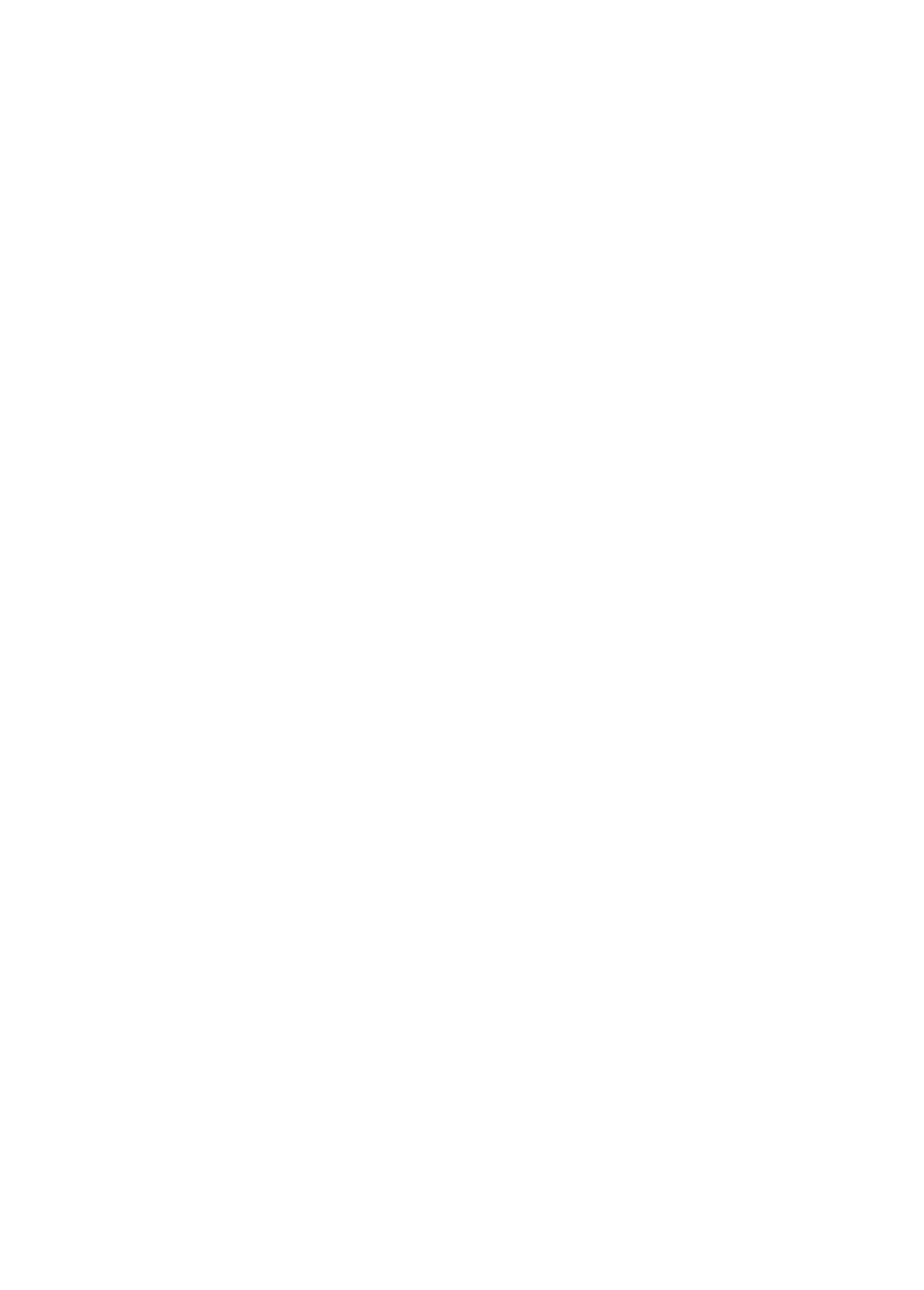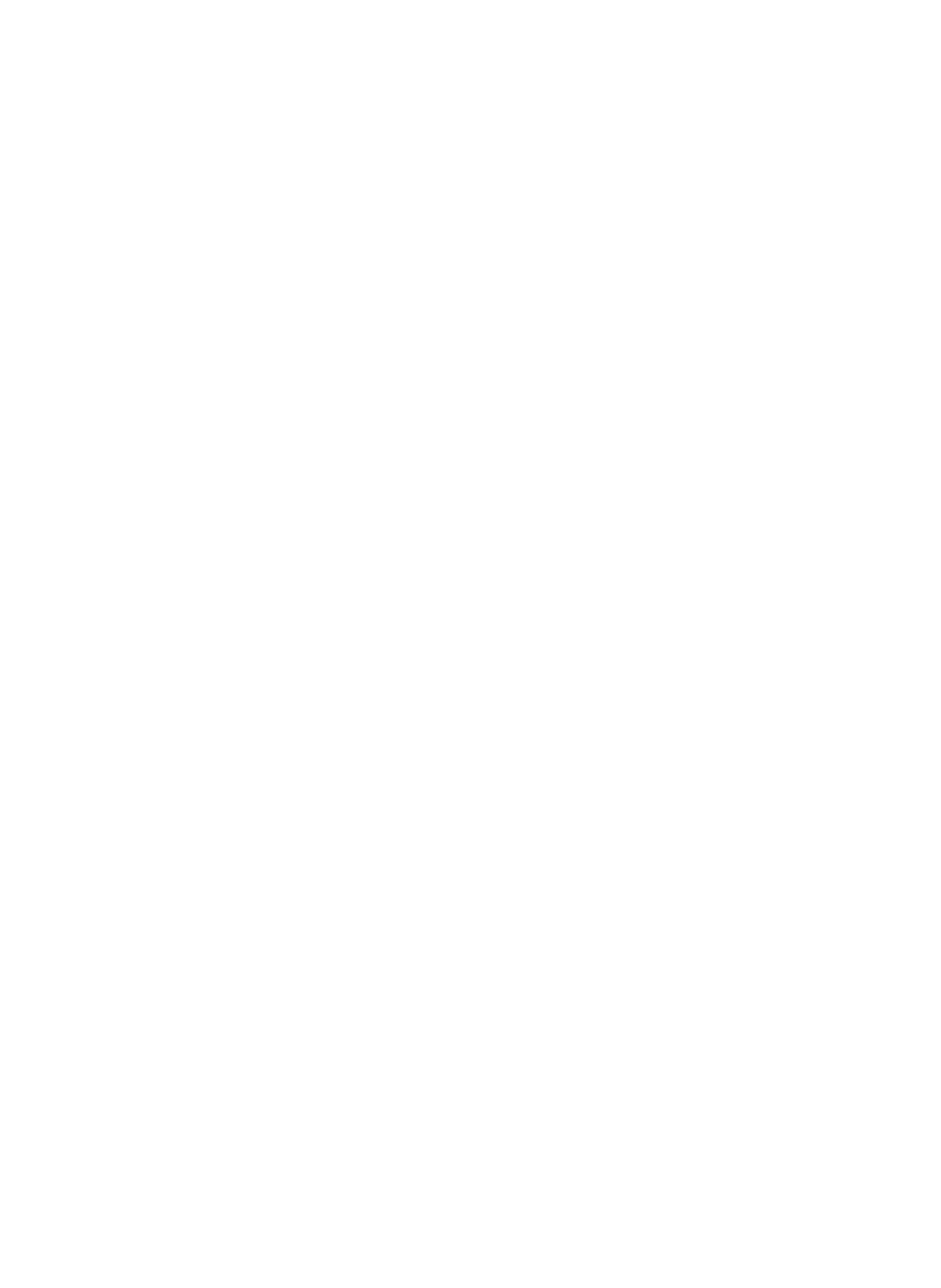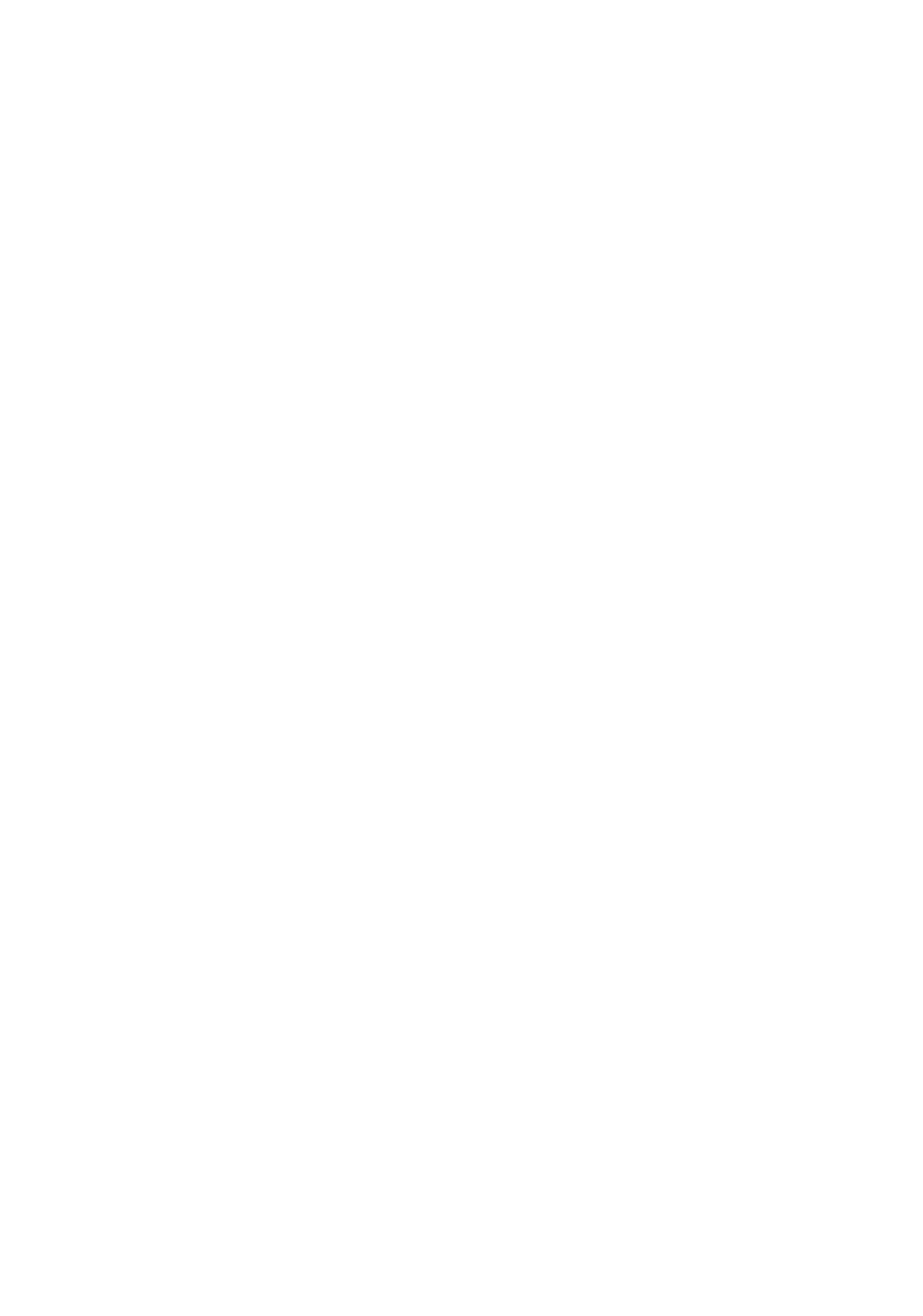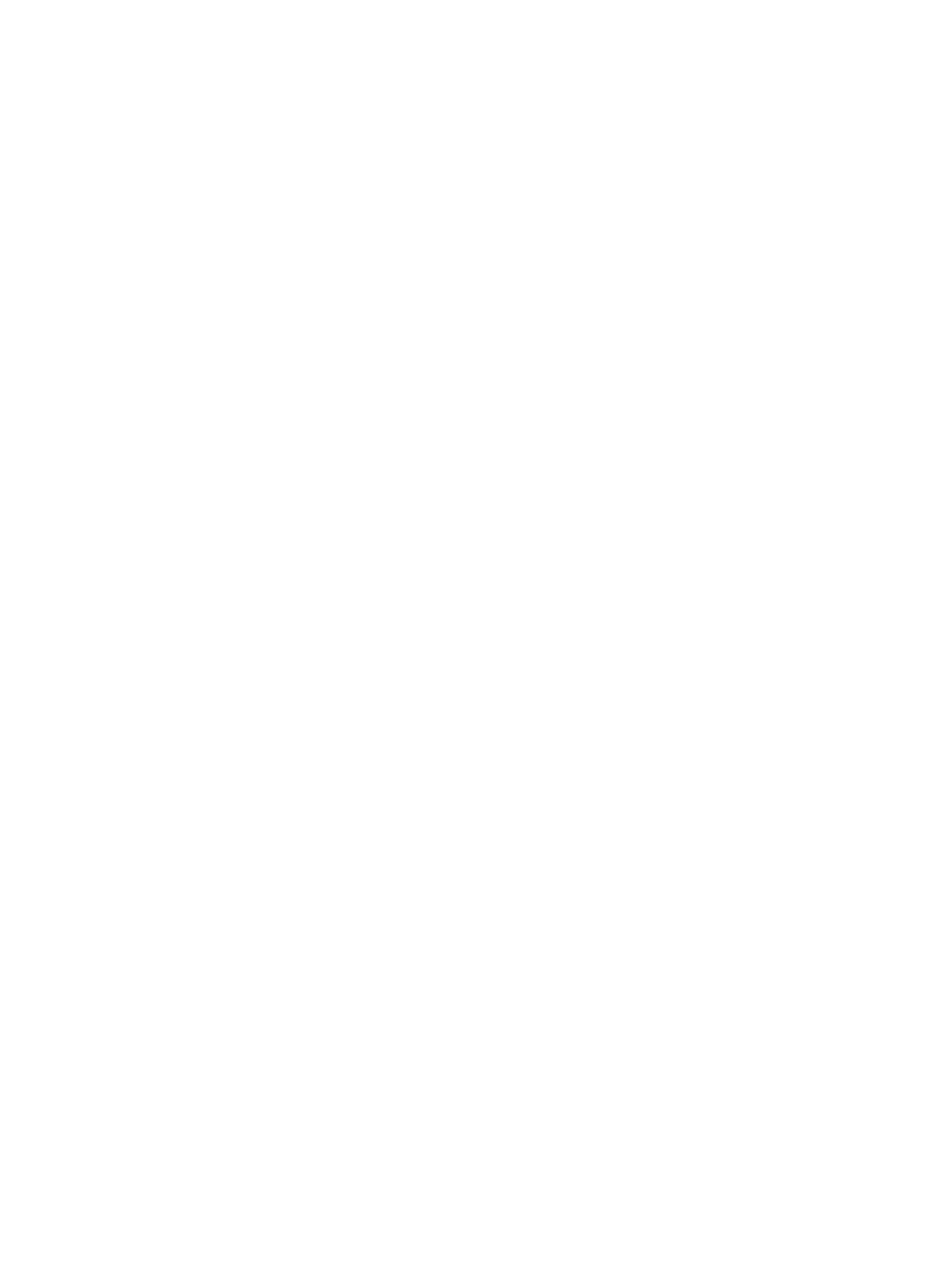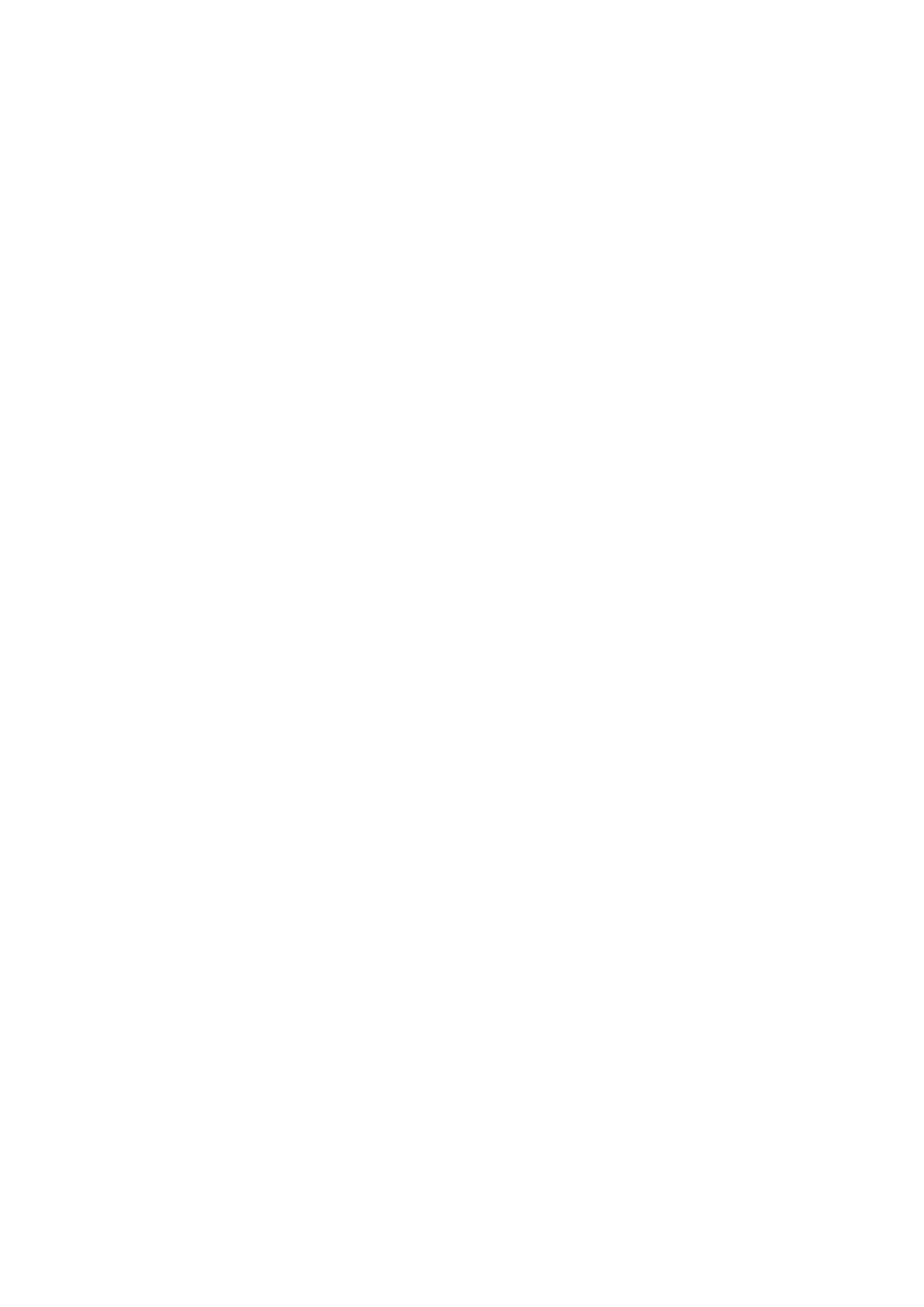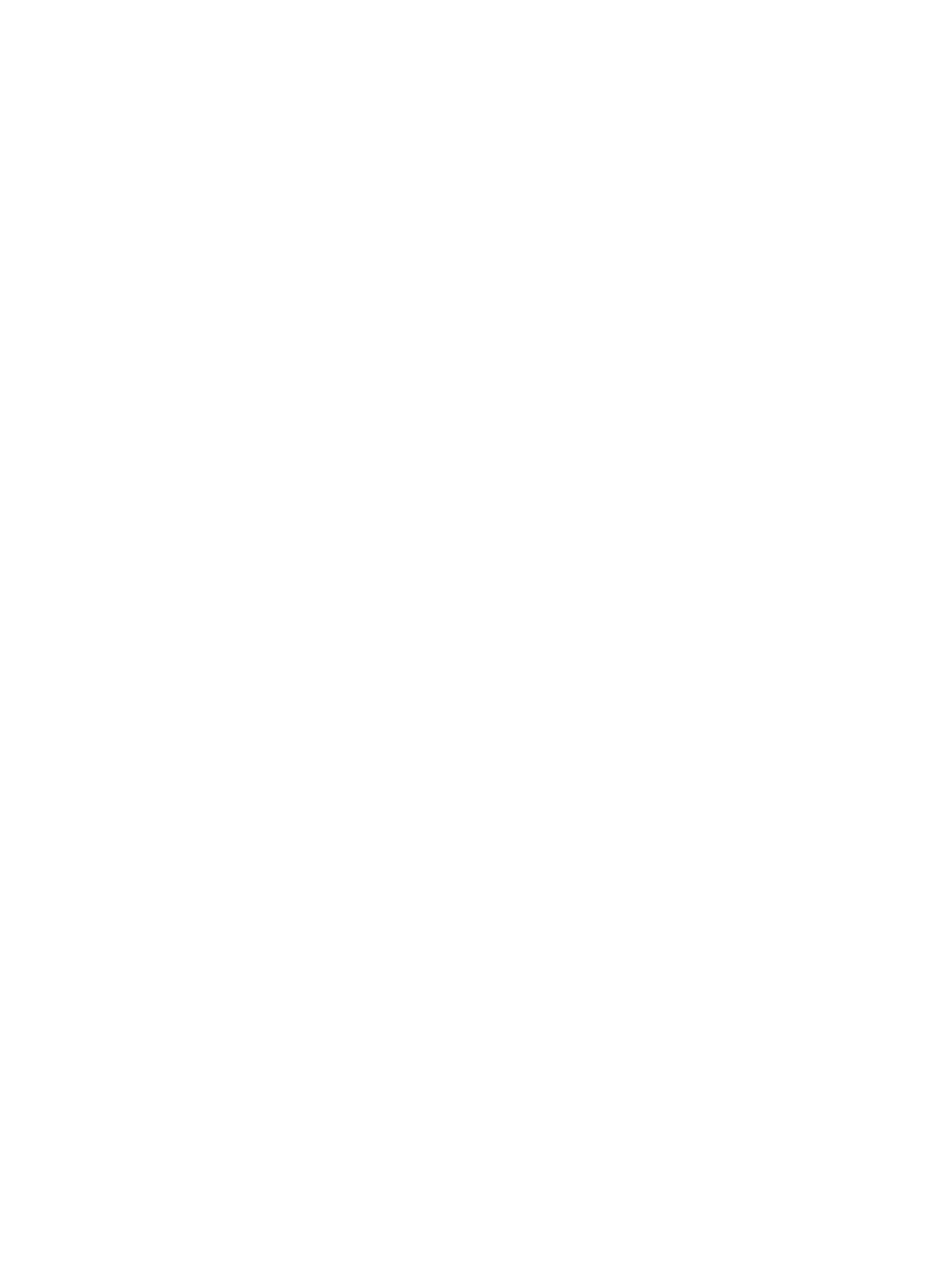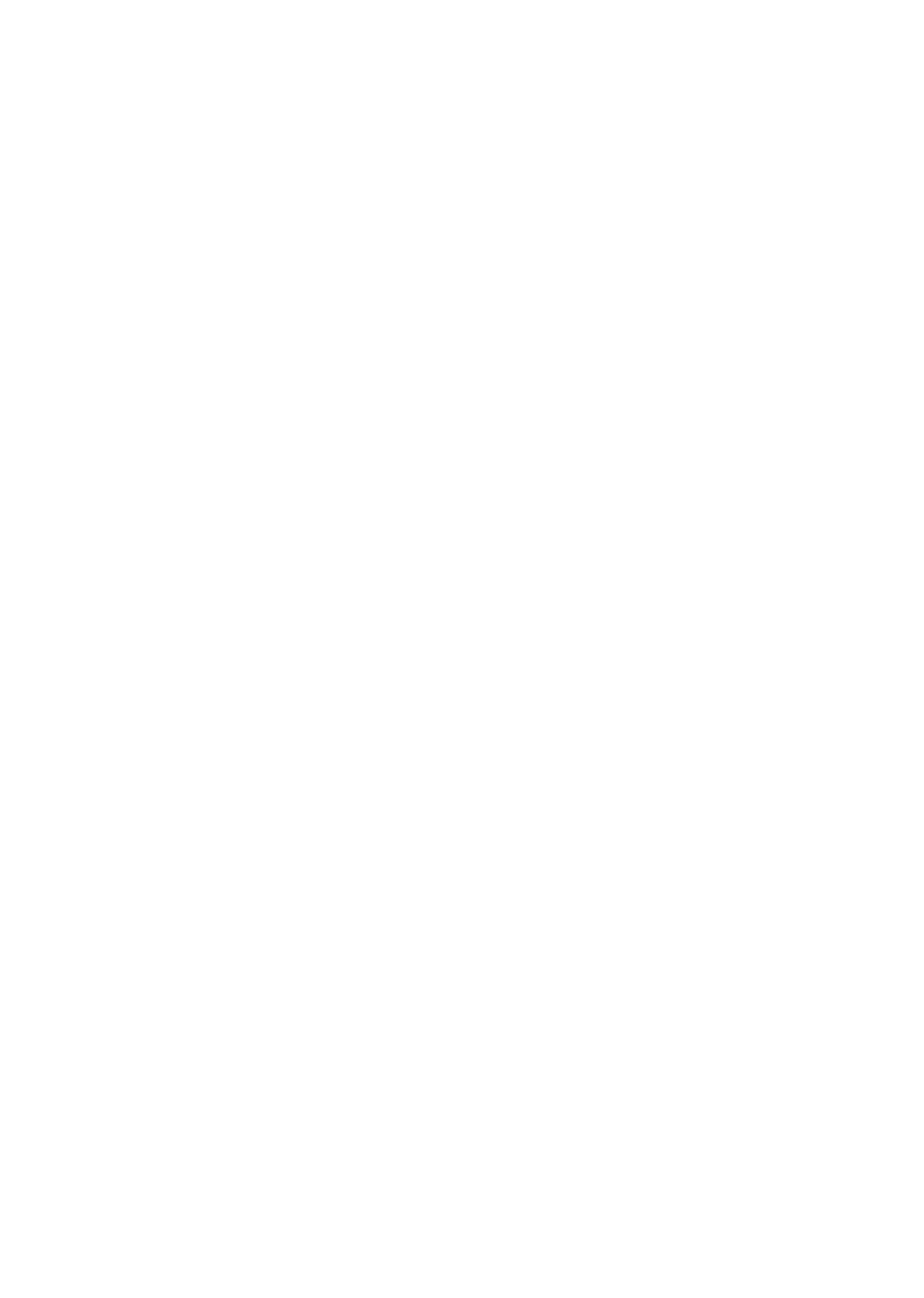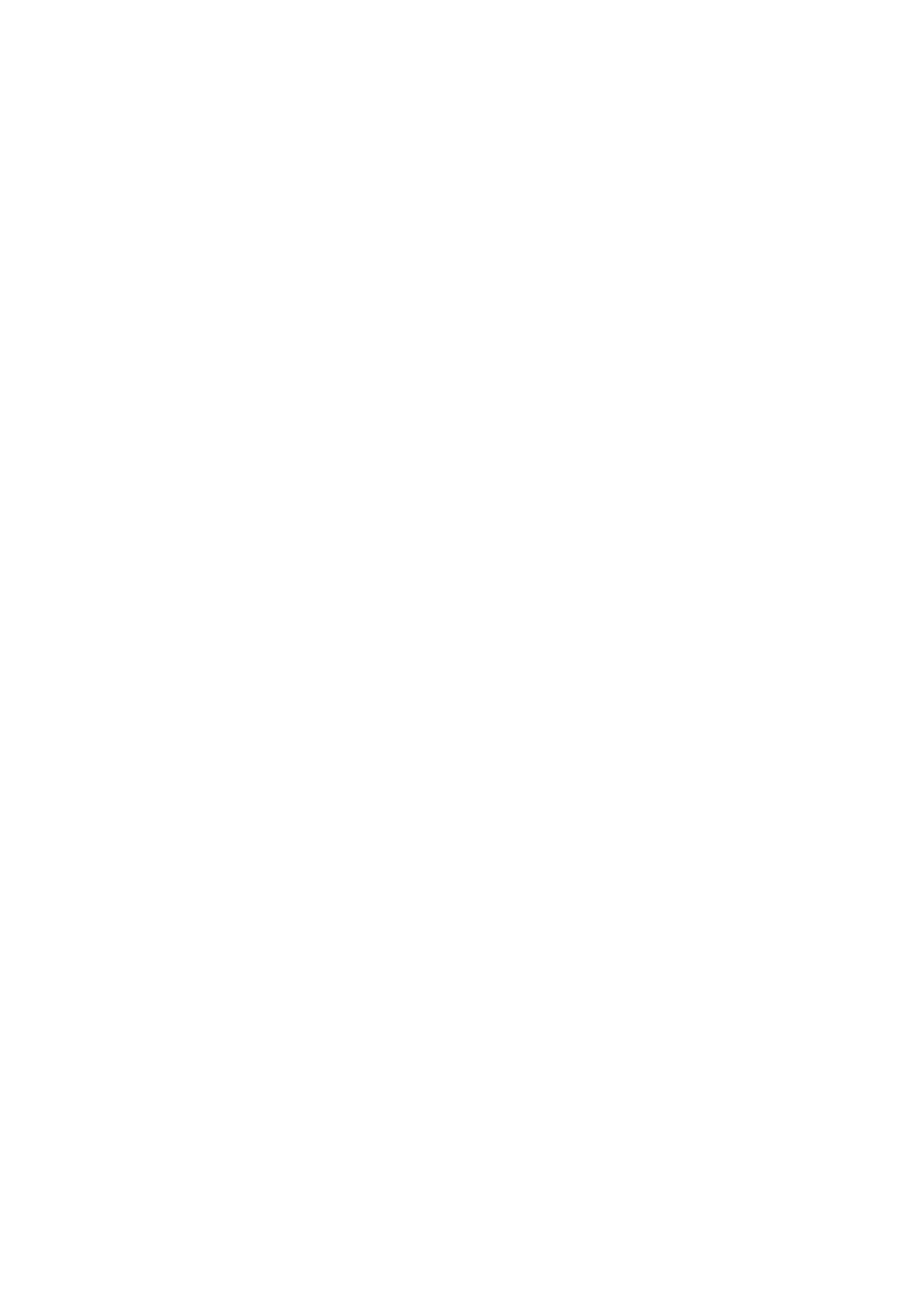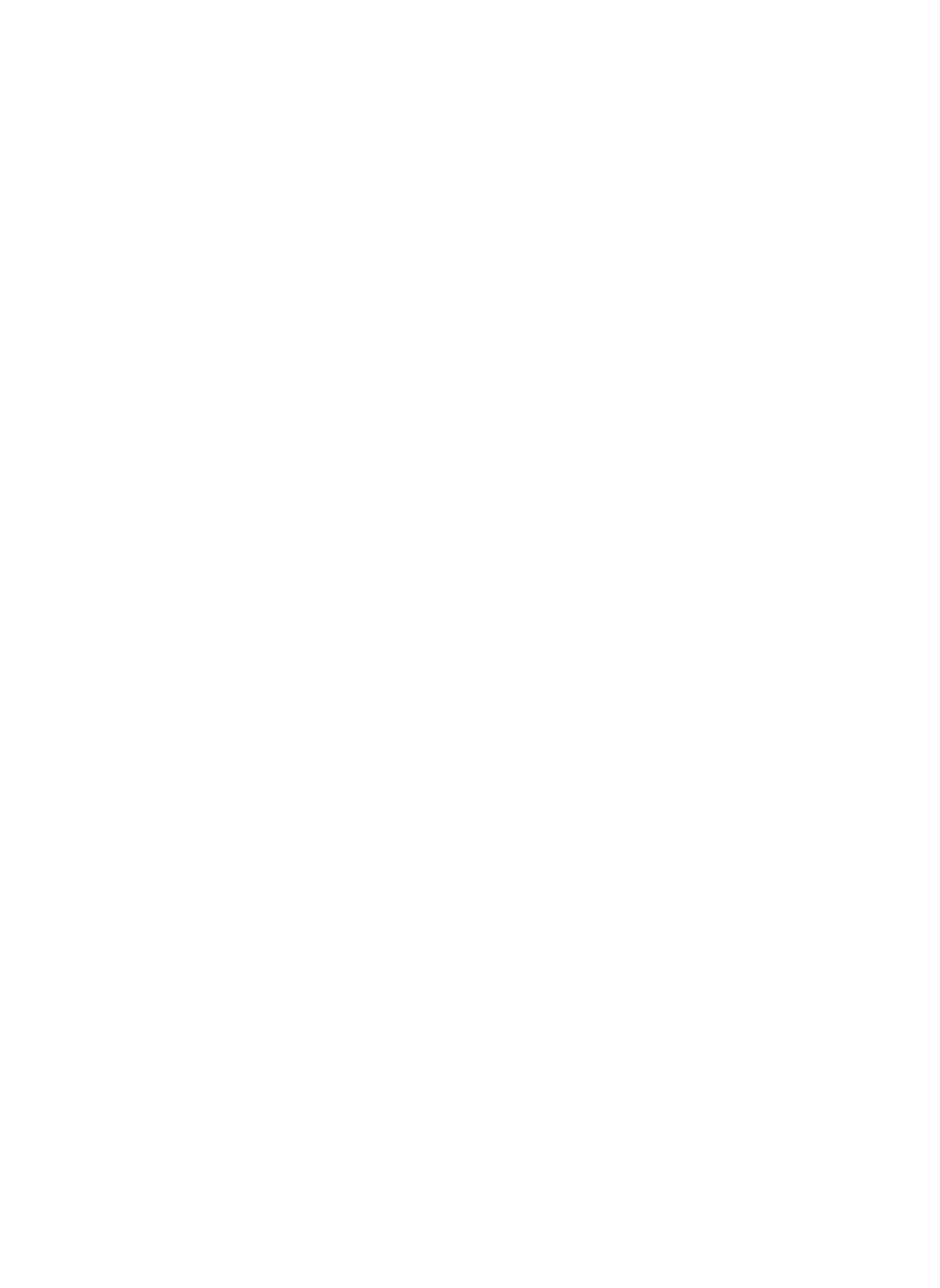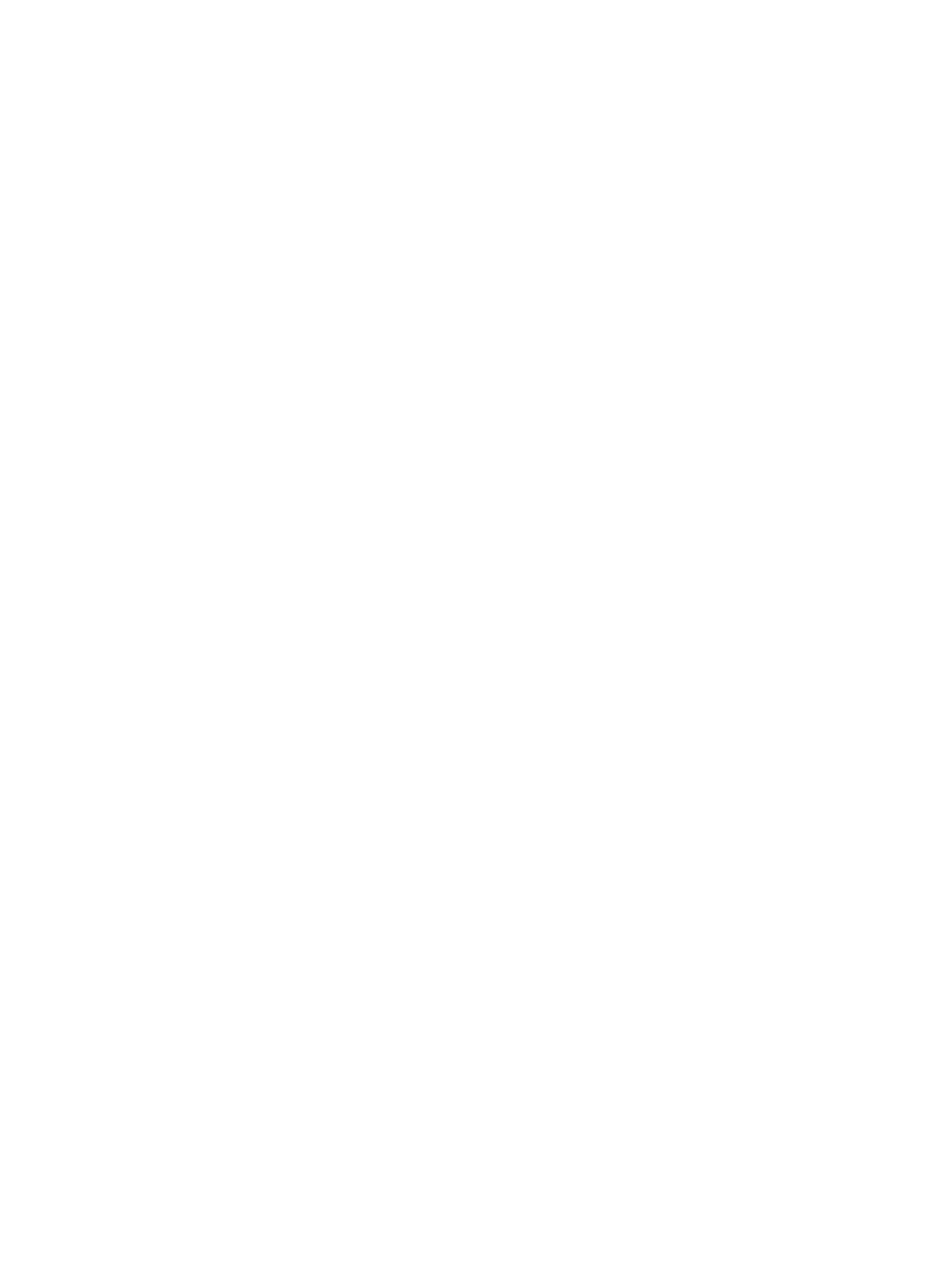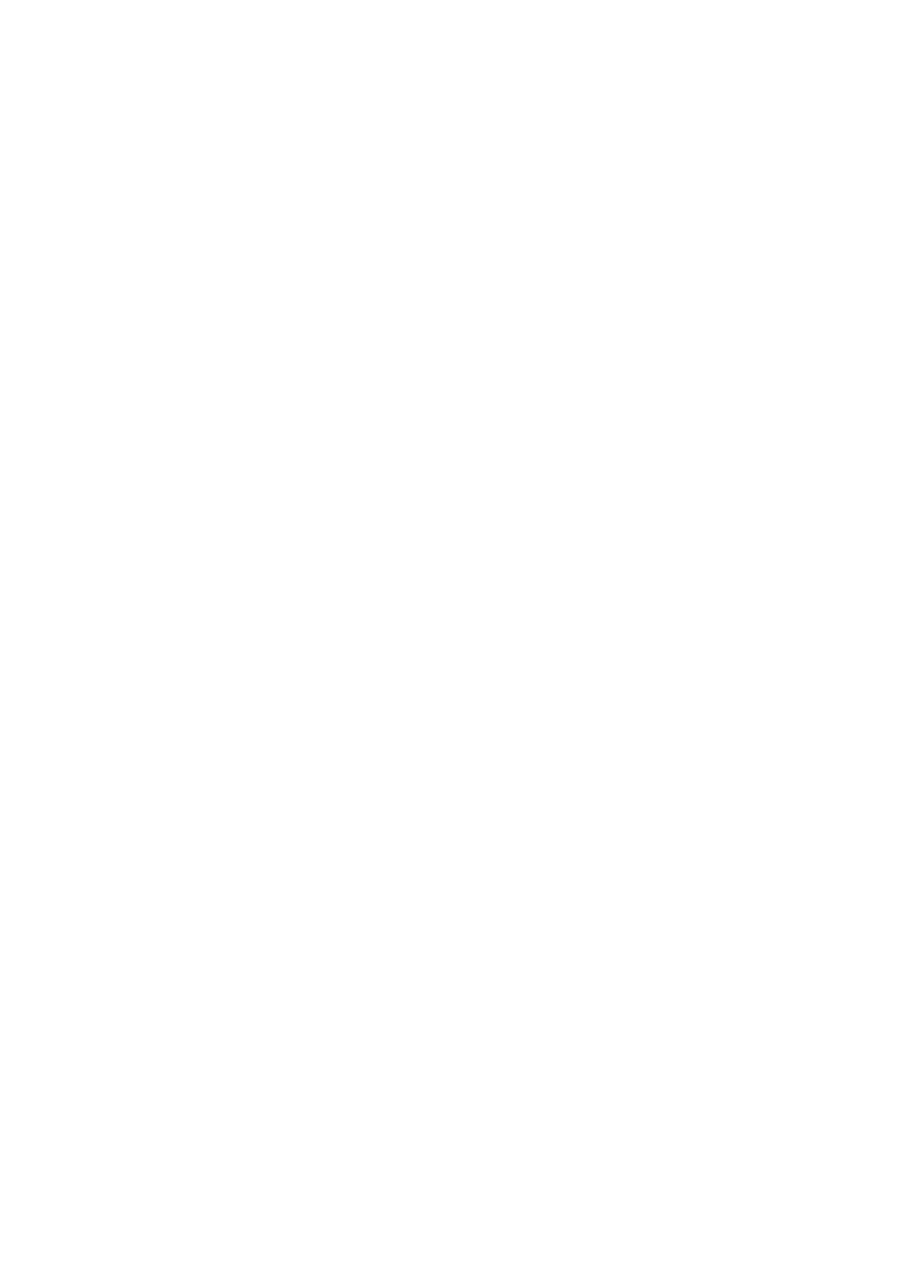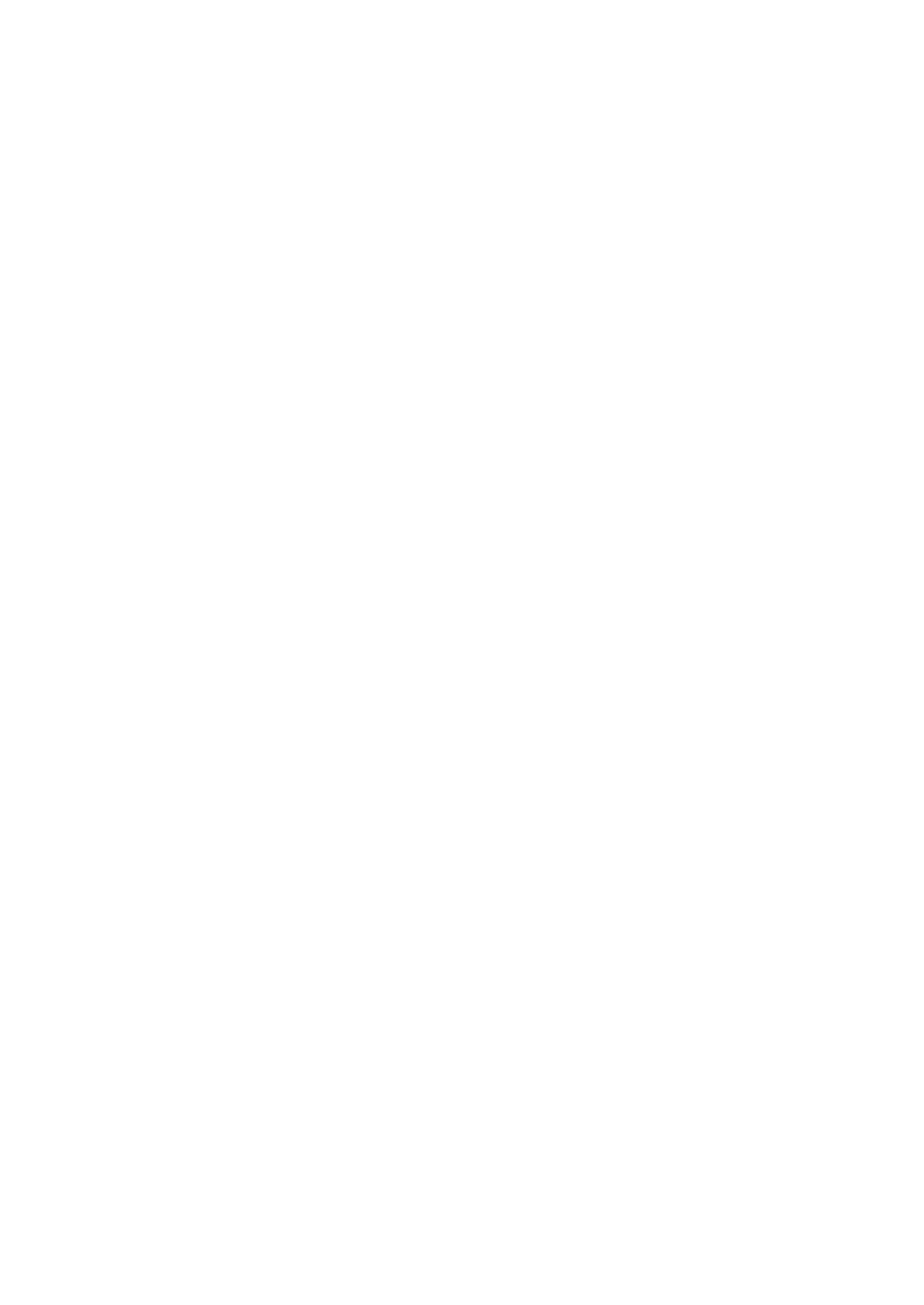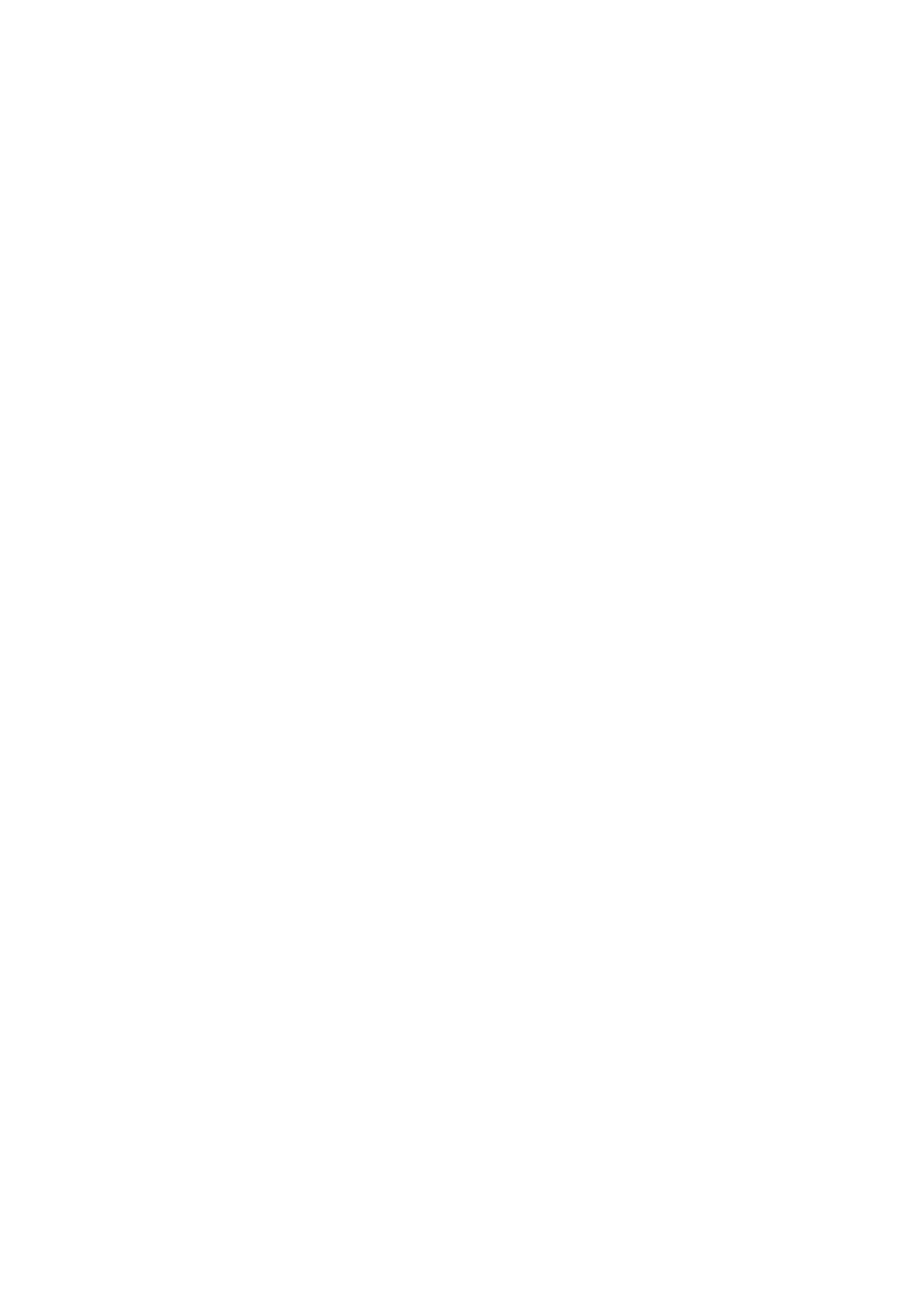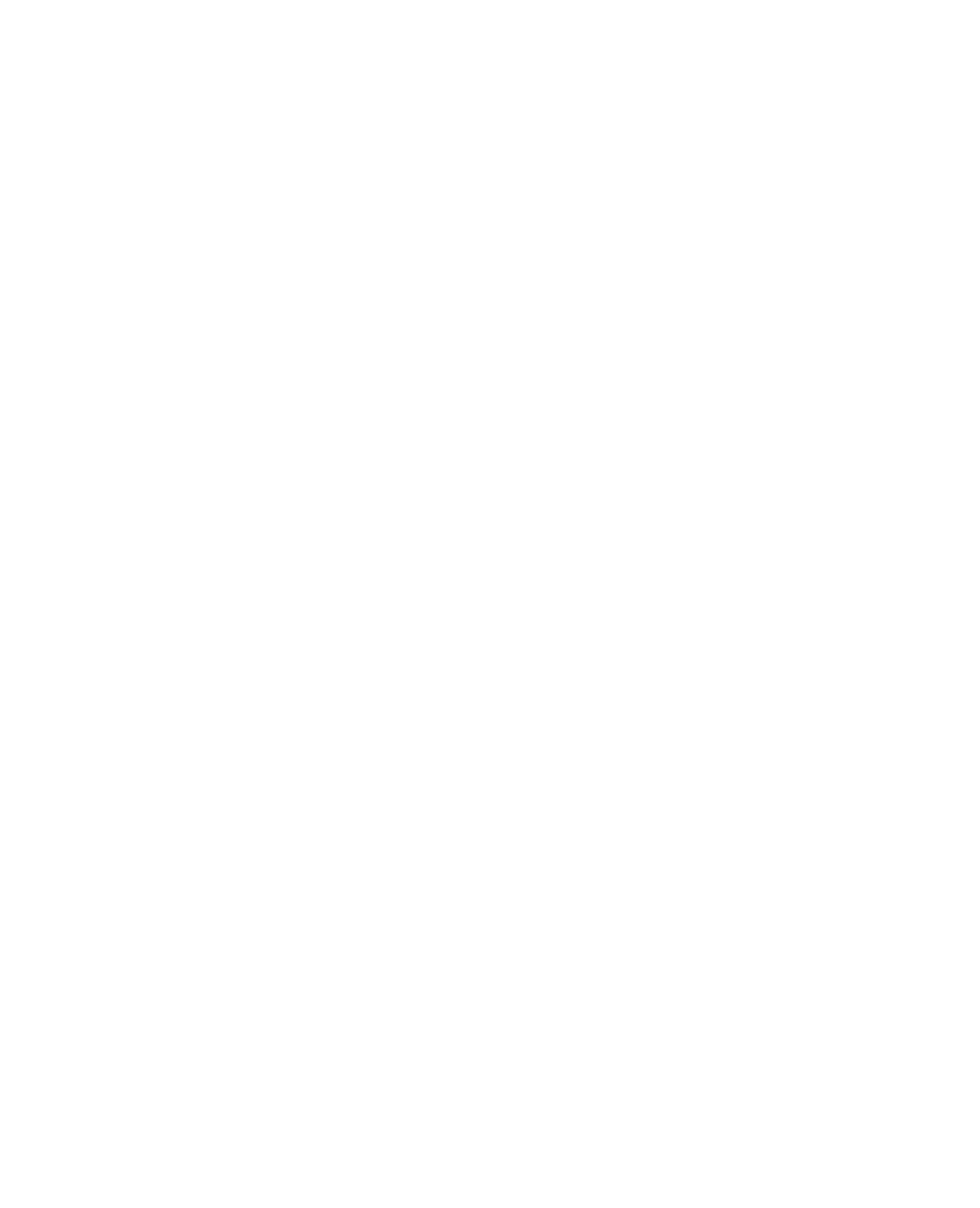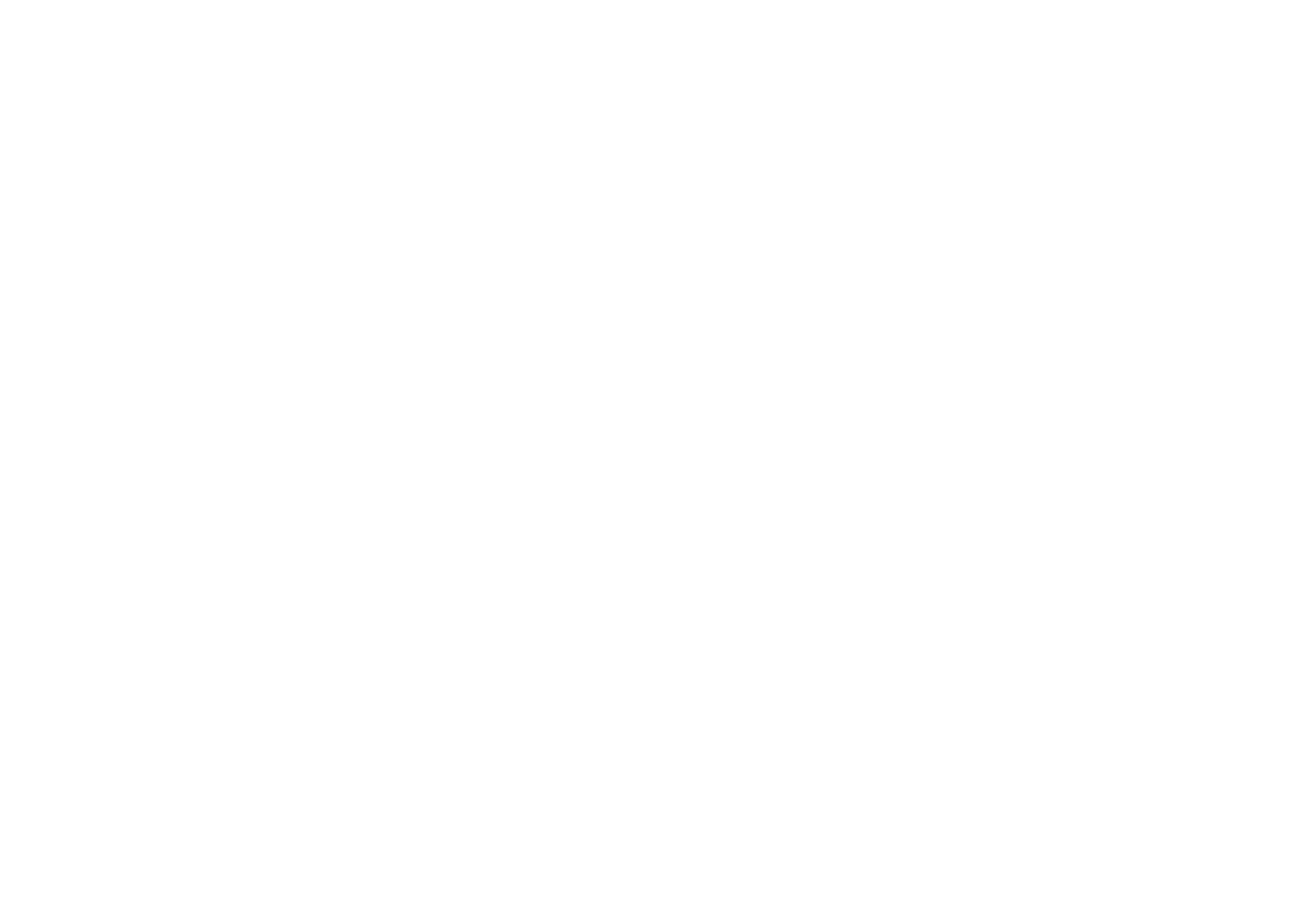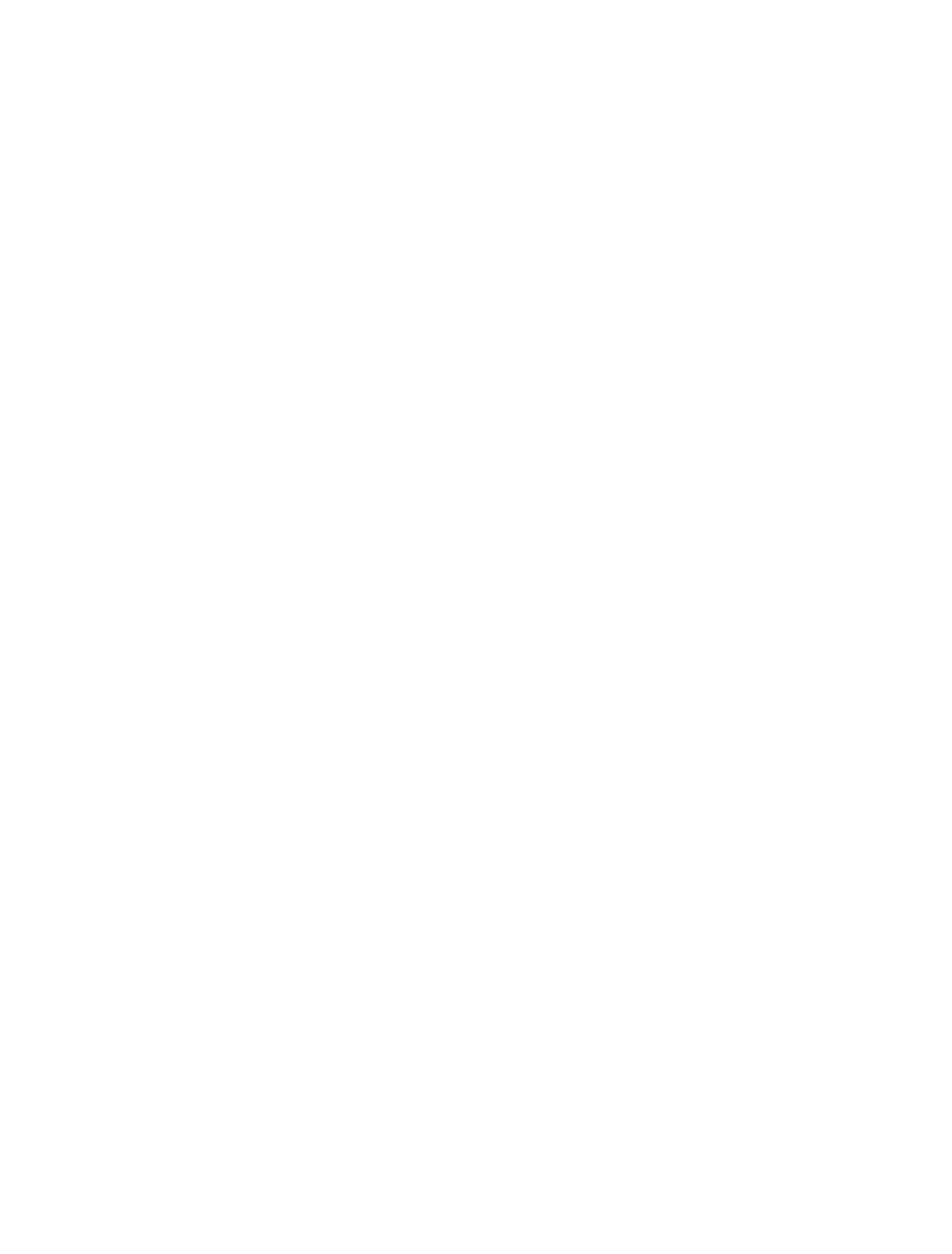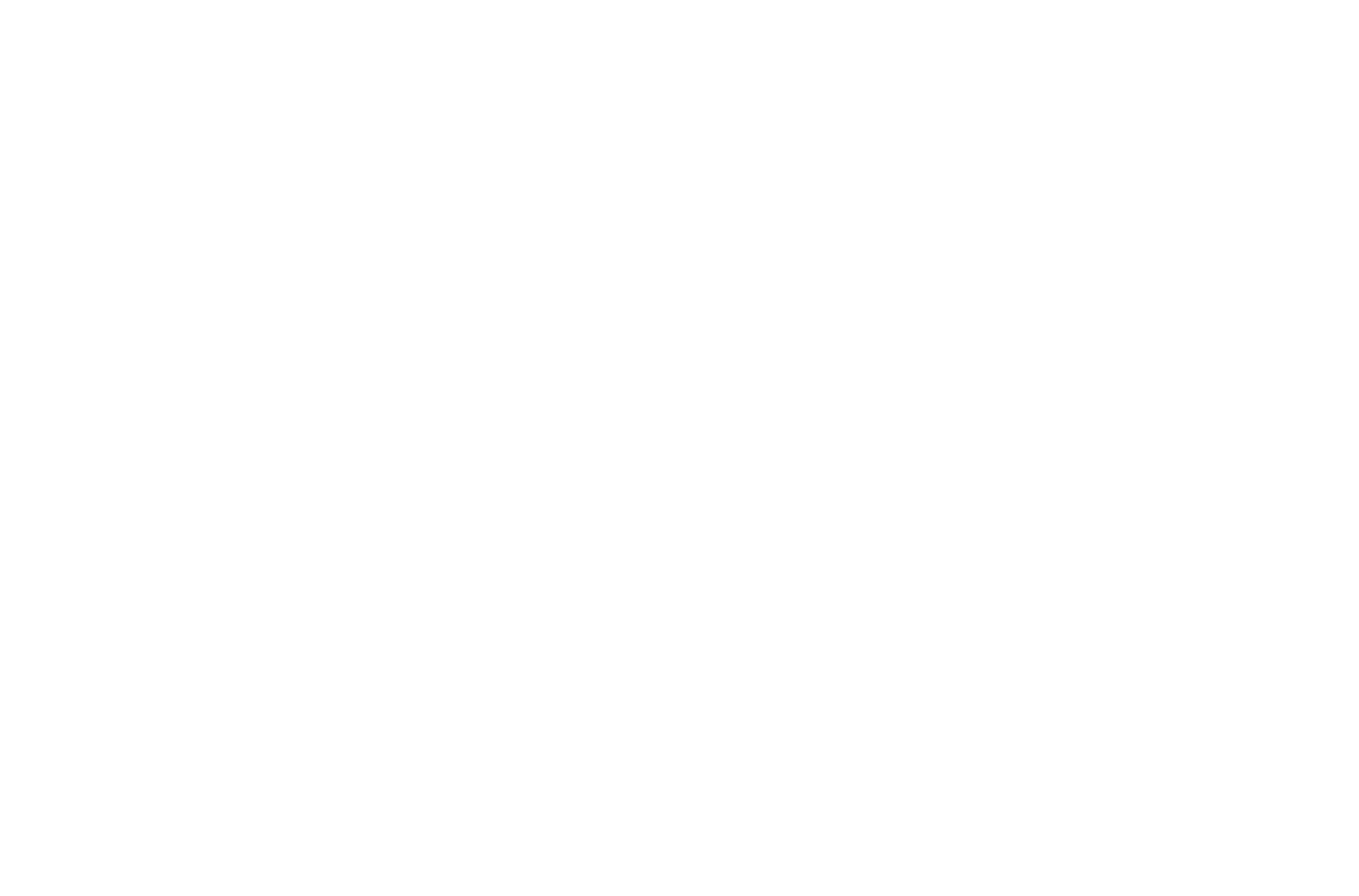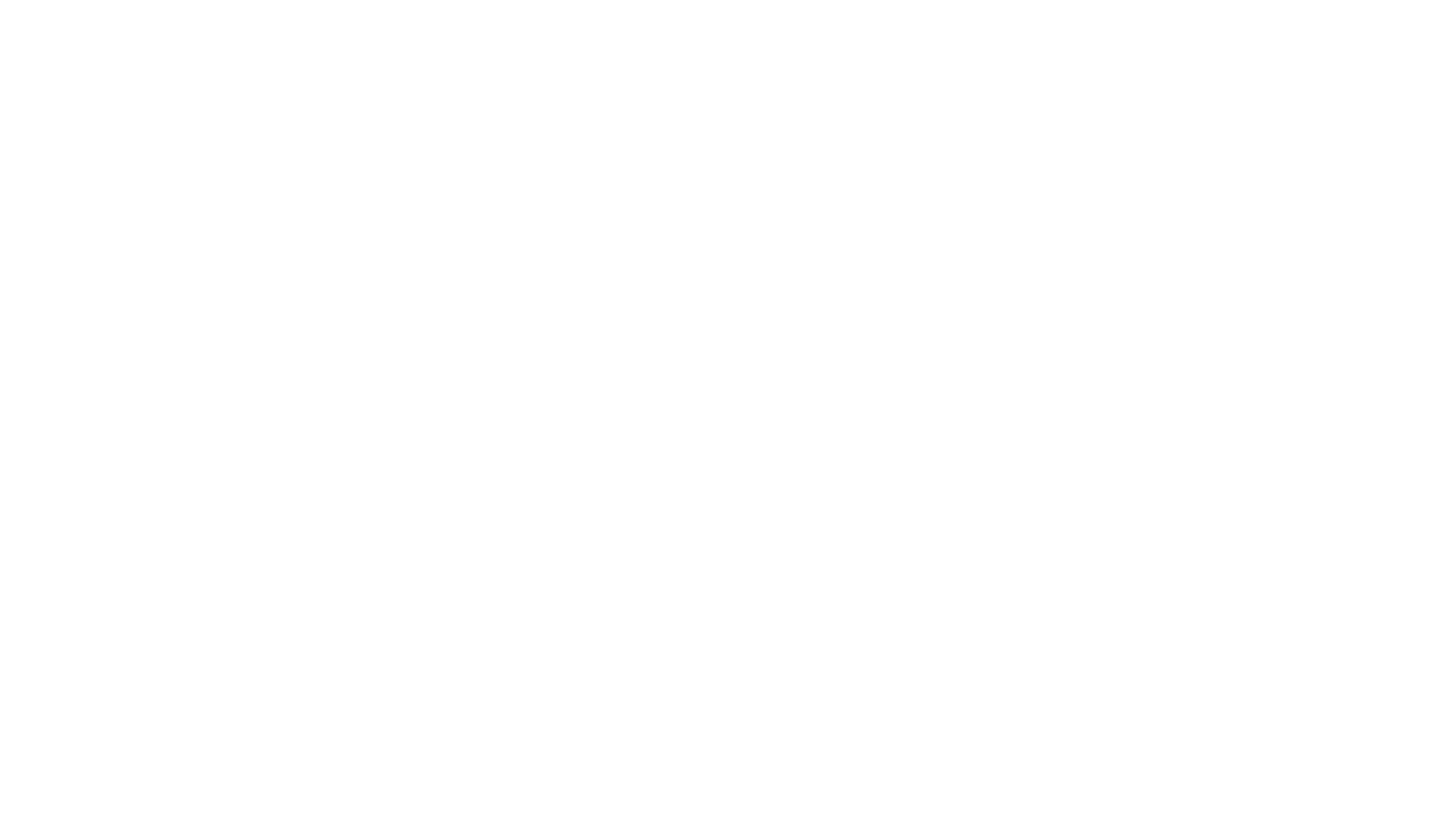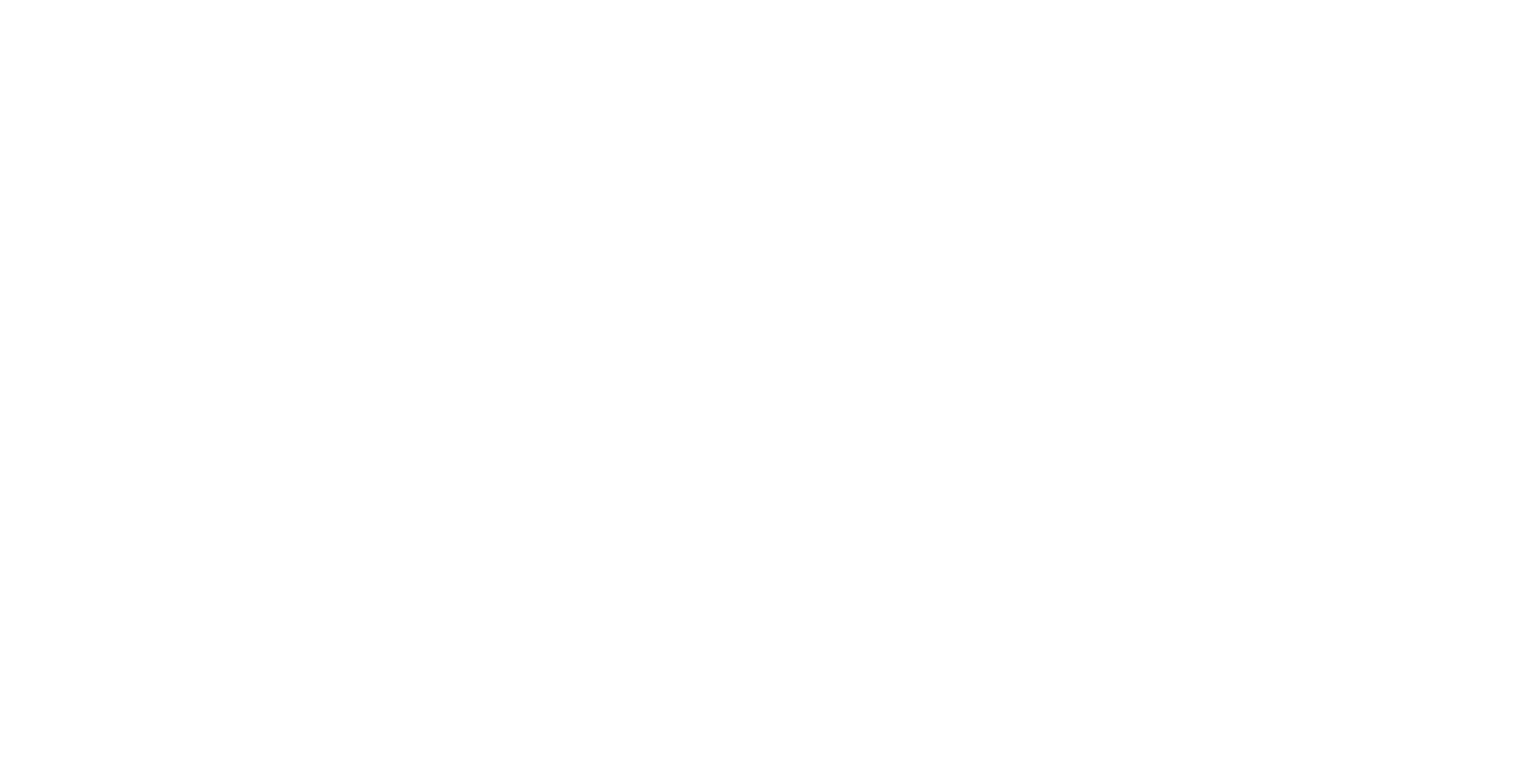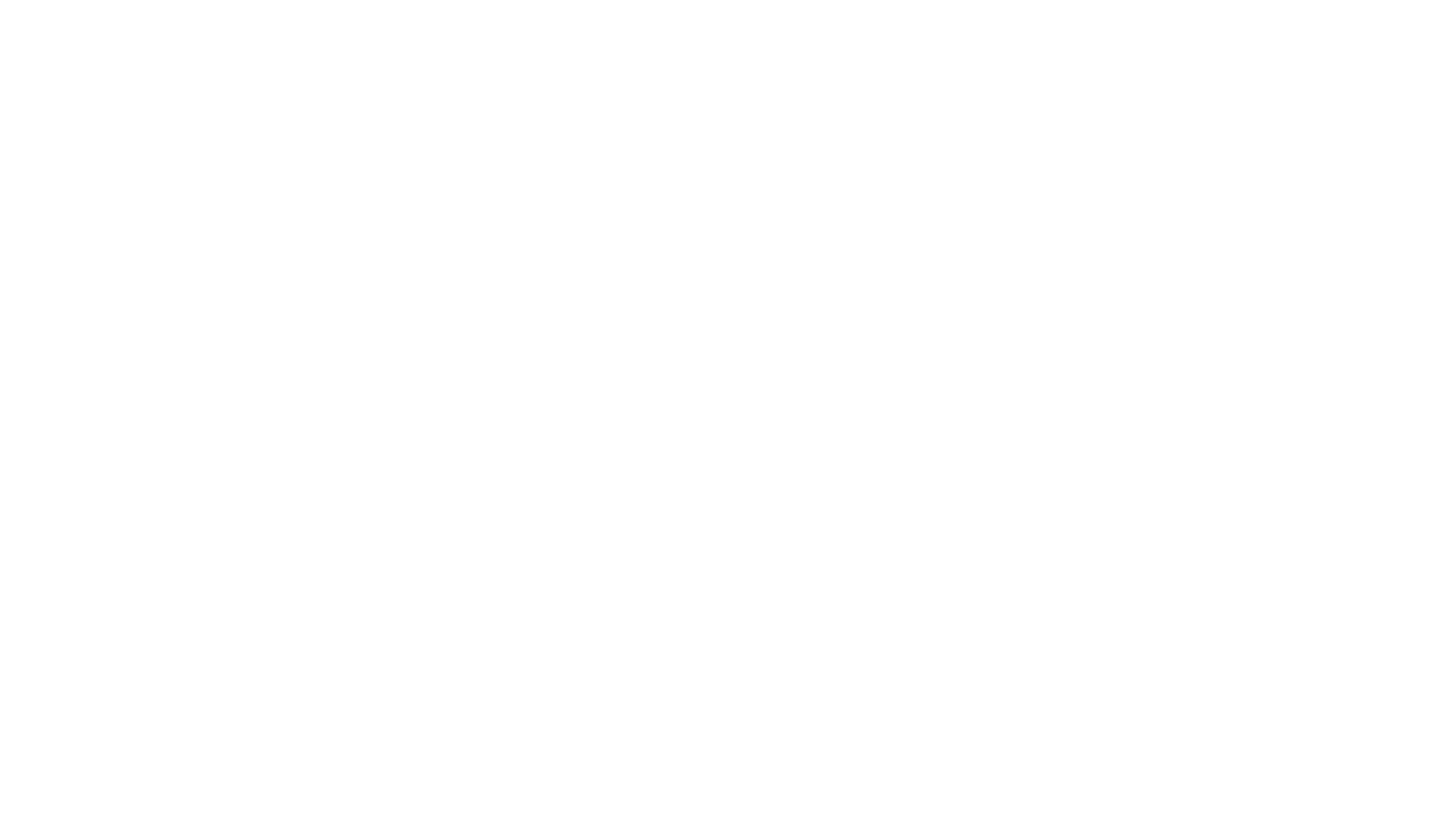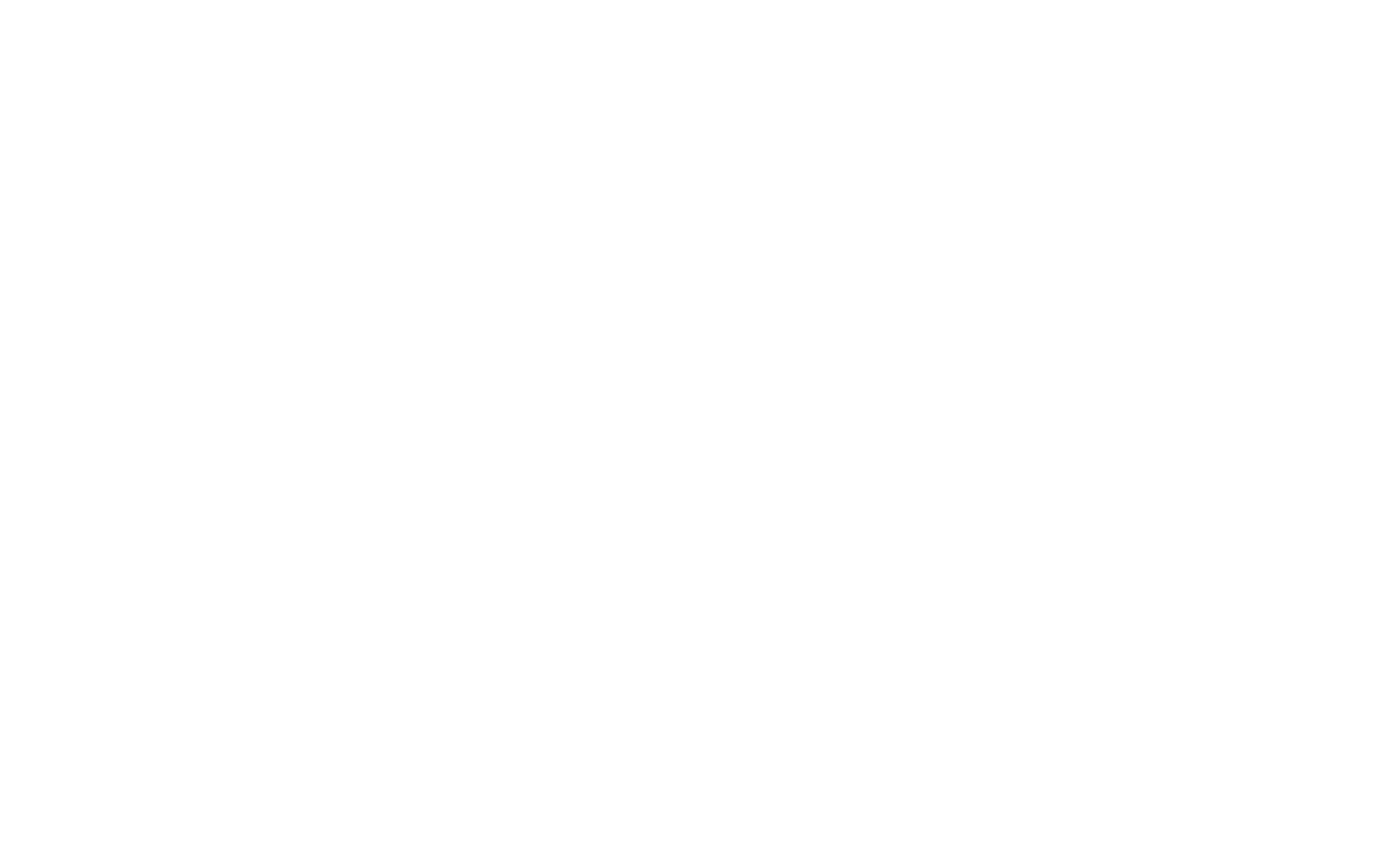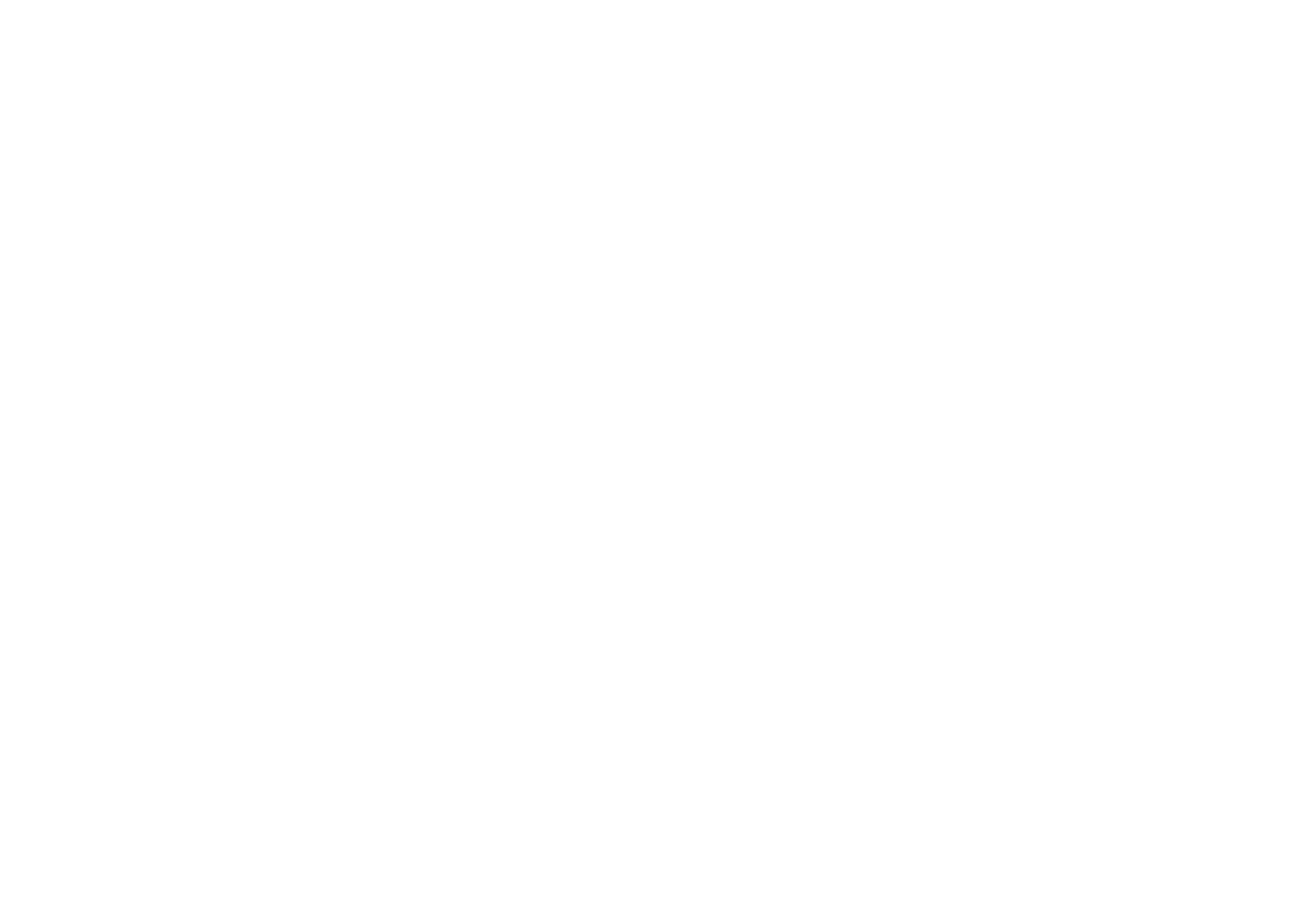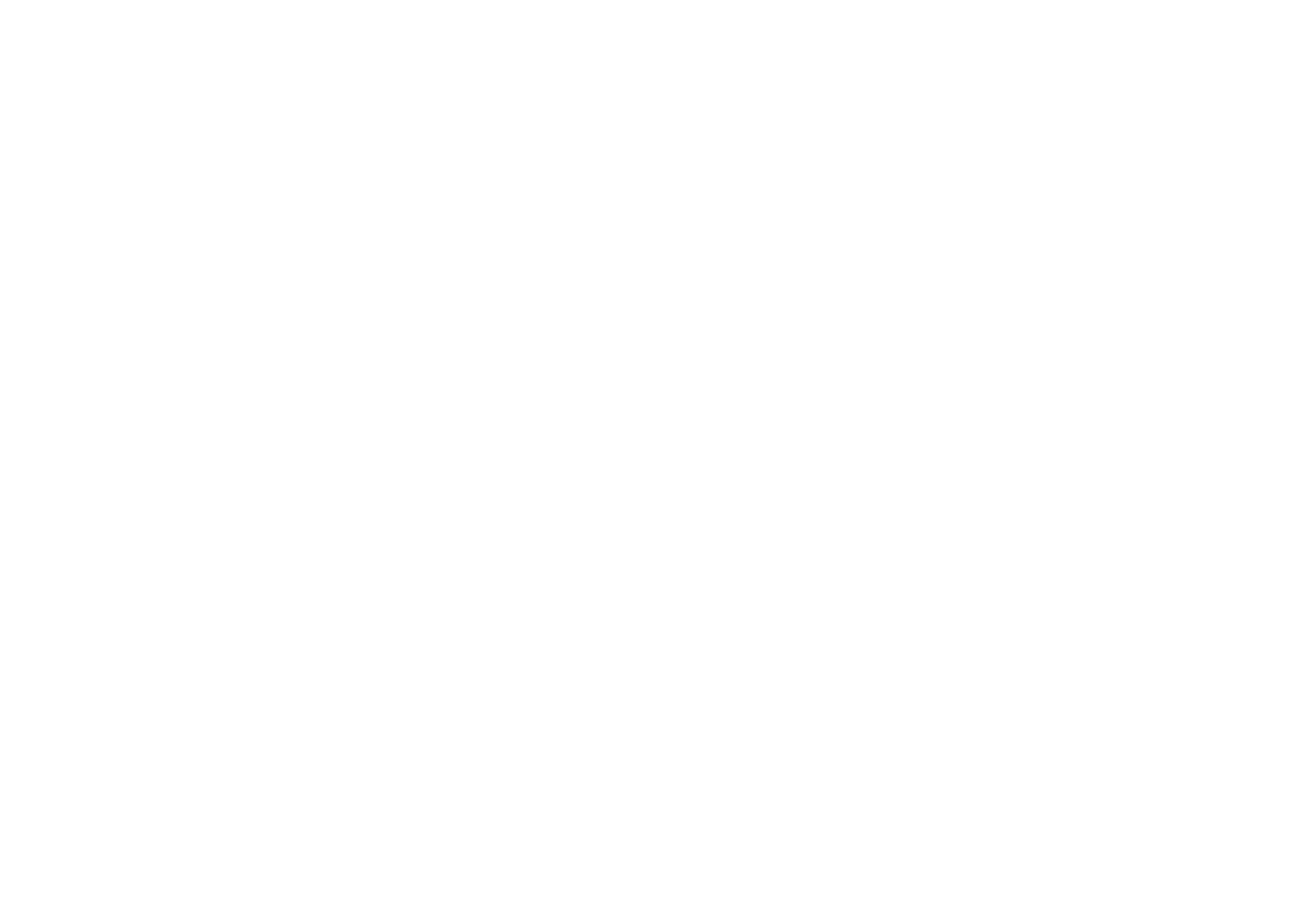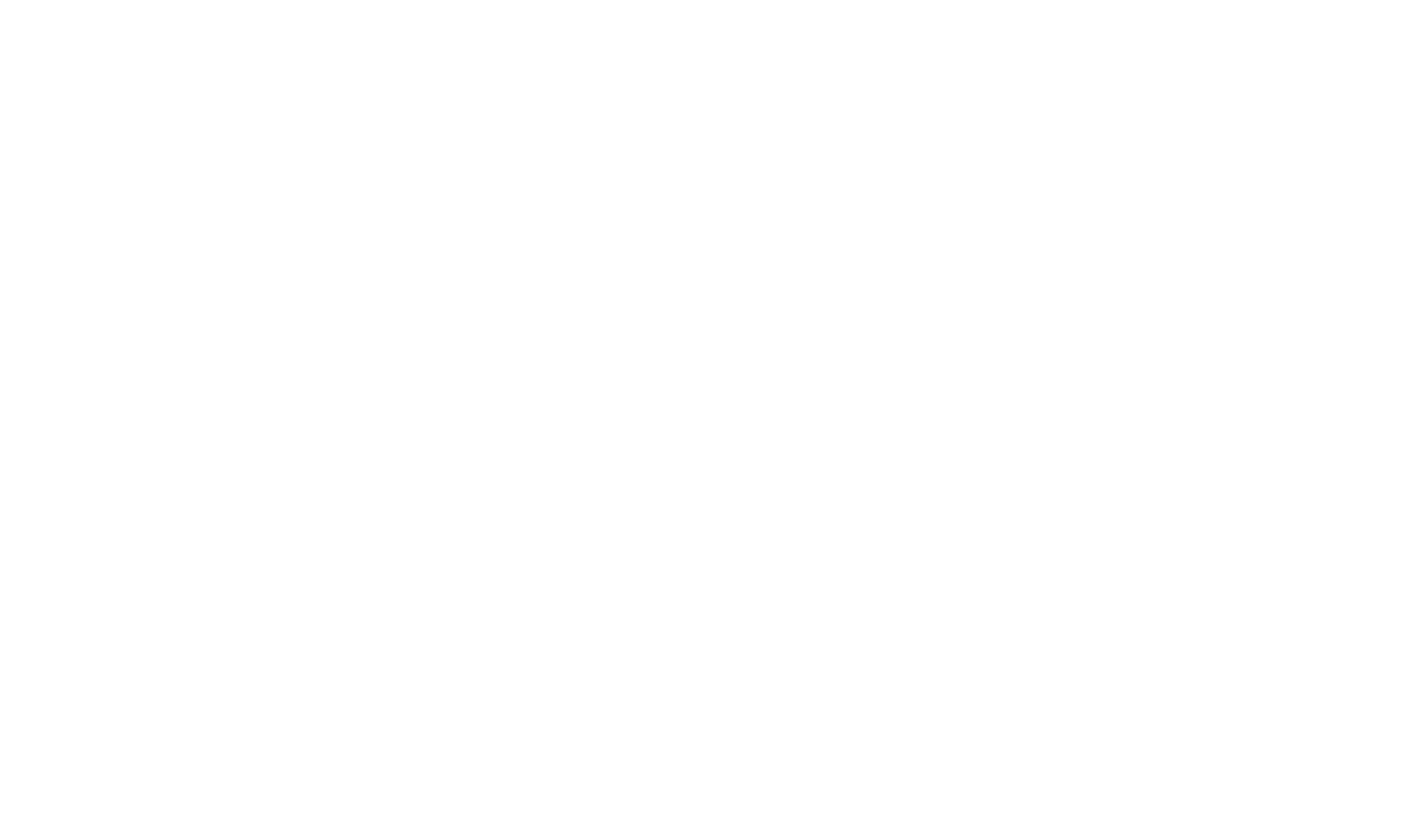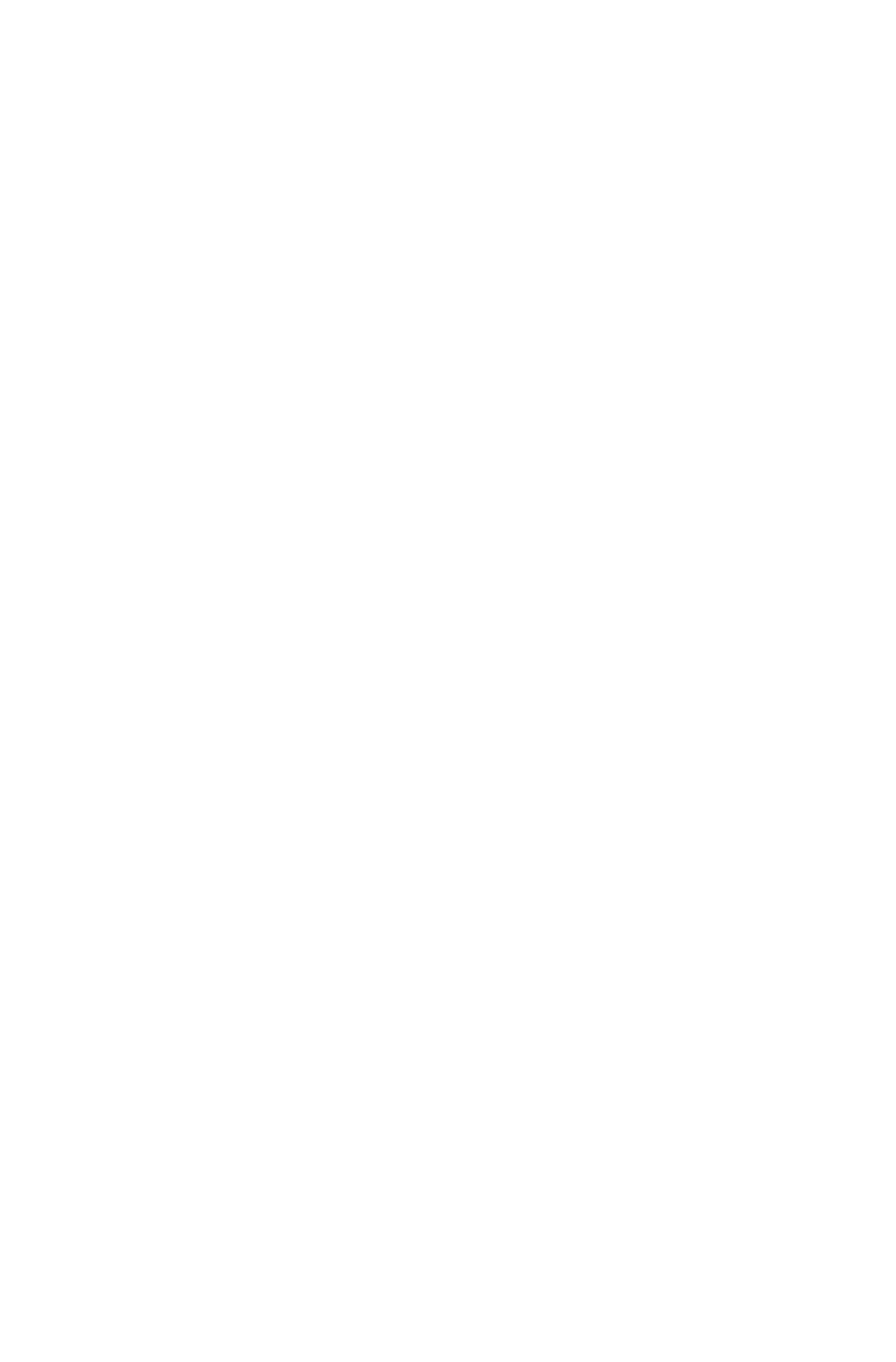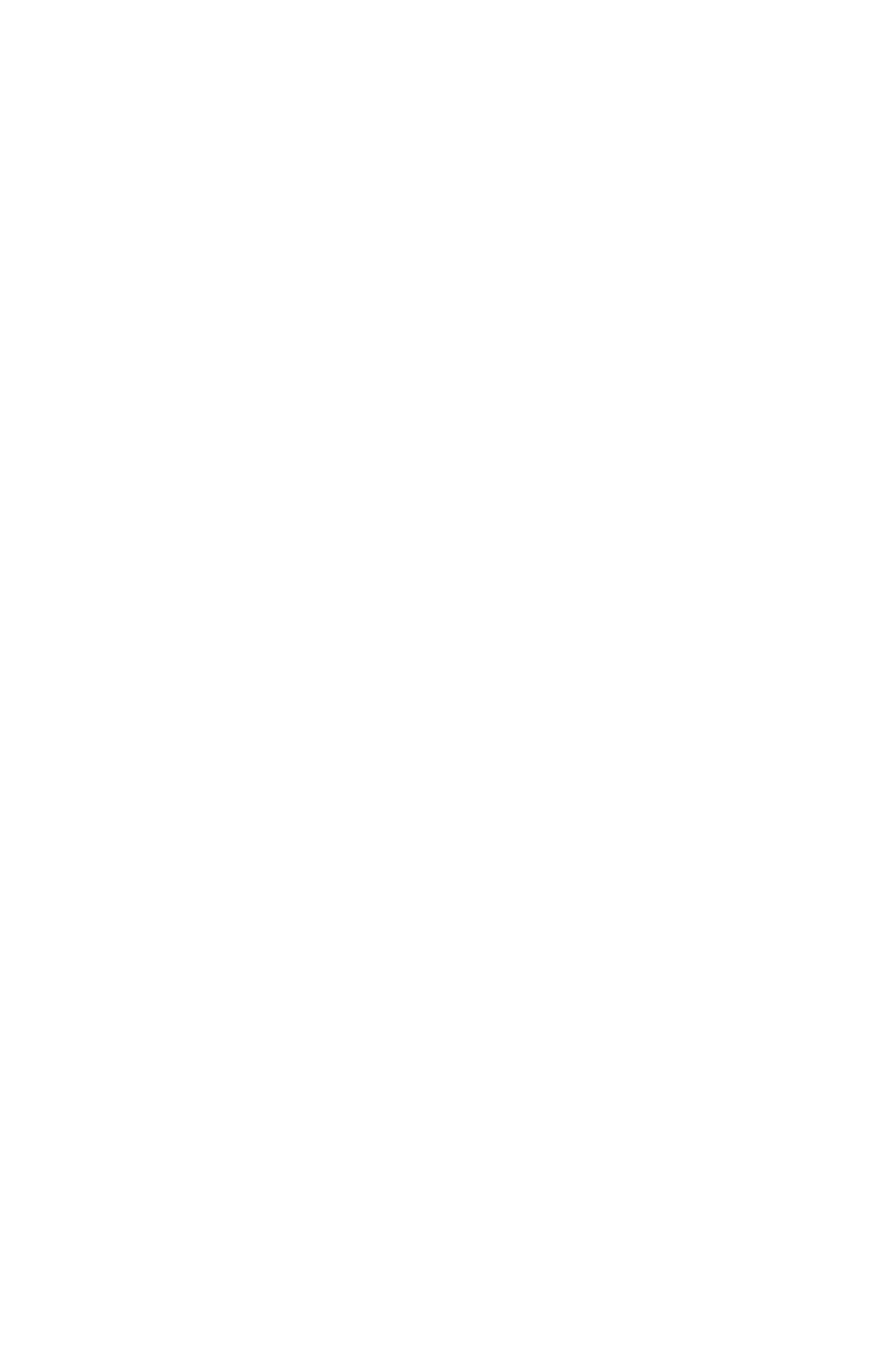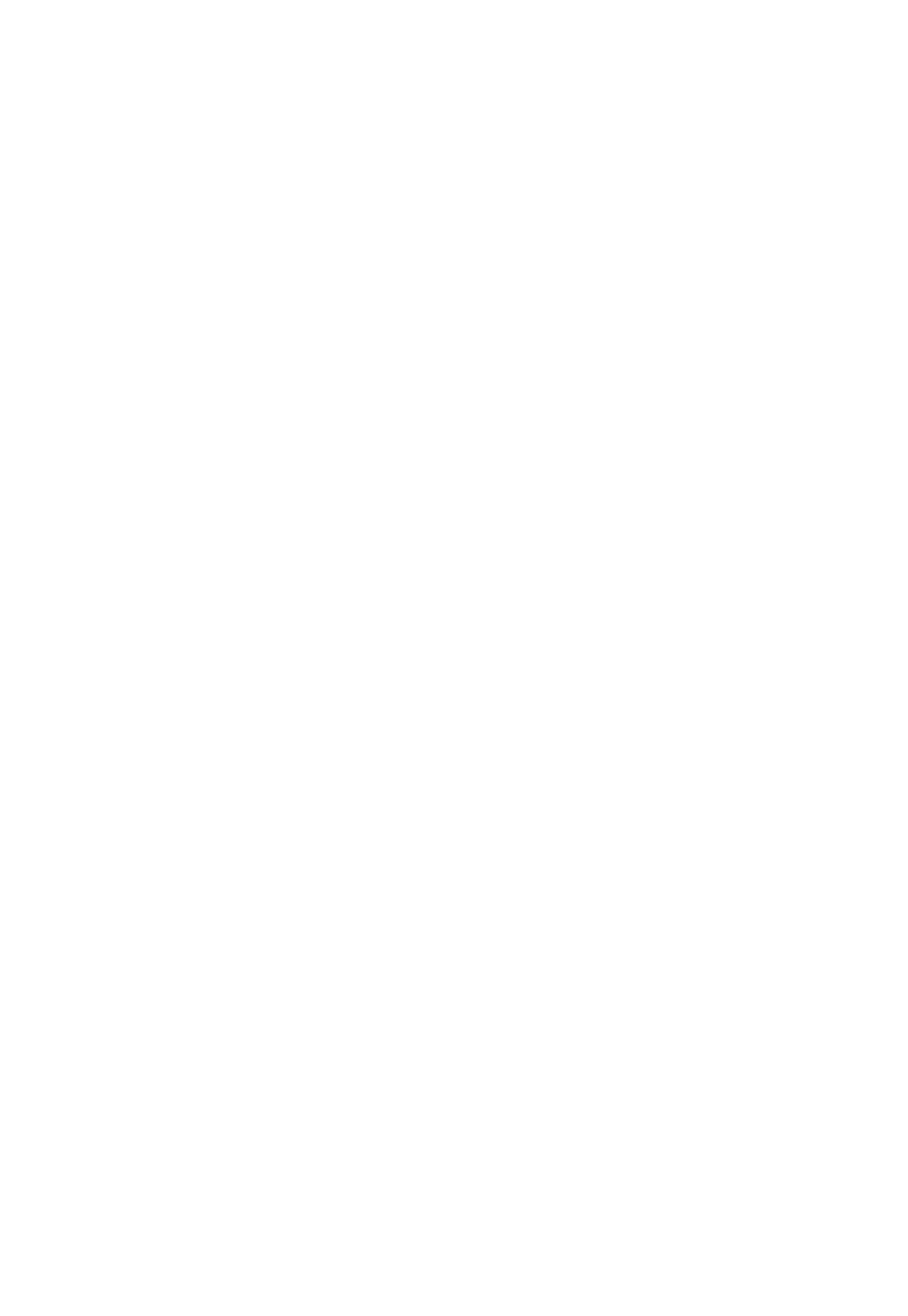К 100-летию художника и фронтовика Владимира Георгиевича Старова
(19.01.1925, Смоленск — 29.08.2013, Санкт-Петербург)
График, педагог, народный художник РФ.
1934−1942 — Школа юных дарований (с 1936 — Средняя художественная школа при ВАХ).
1943−1945 — 1-й Белорусский фронт, рядовой, артиллерийский разведчик. Служил в рядах Советской Армии до апреля 1949 года. Награждён орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны» I степени, медалями: «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг.».
В 1953 Владимир Георгиевич Старов поступил в Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина (ИнЖСА им. И.Е. Репина).
С 1961 — преподаватель по акварели на факультете графики ИнЖСА им. И. Е. Репина;
С 1972 — доцент кафедры рисунка ИнЖСА им. И. Е. Репина, с 1990 — профессор.
НА РАХ. Ф.7. Оп.4-доп. Ед.хр.300.
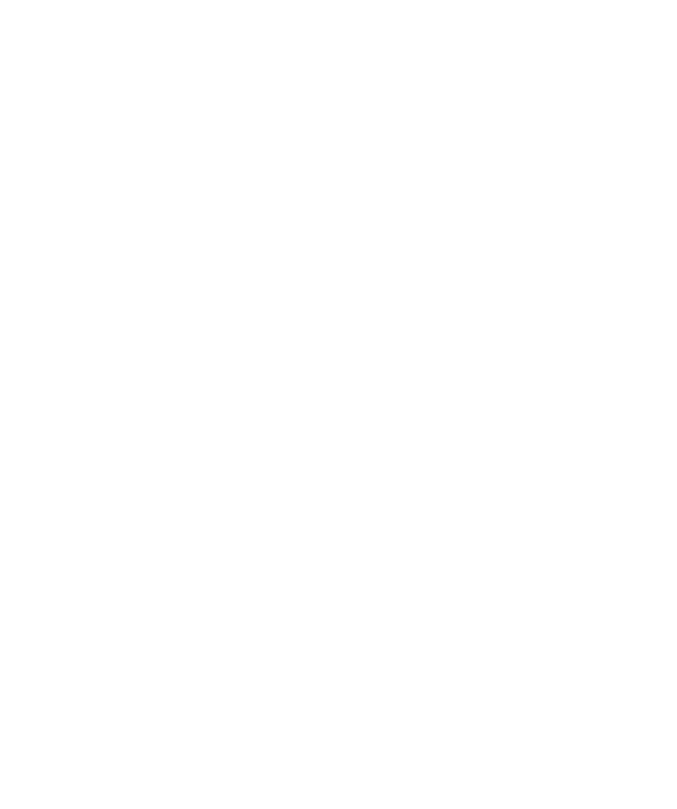
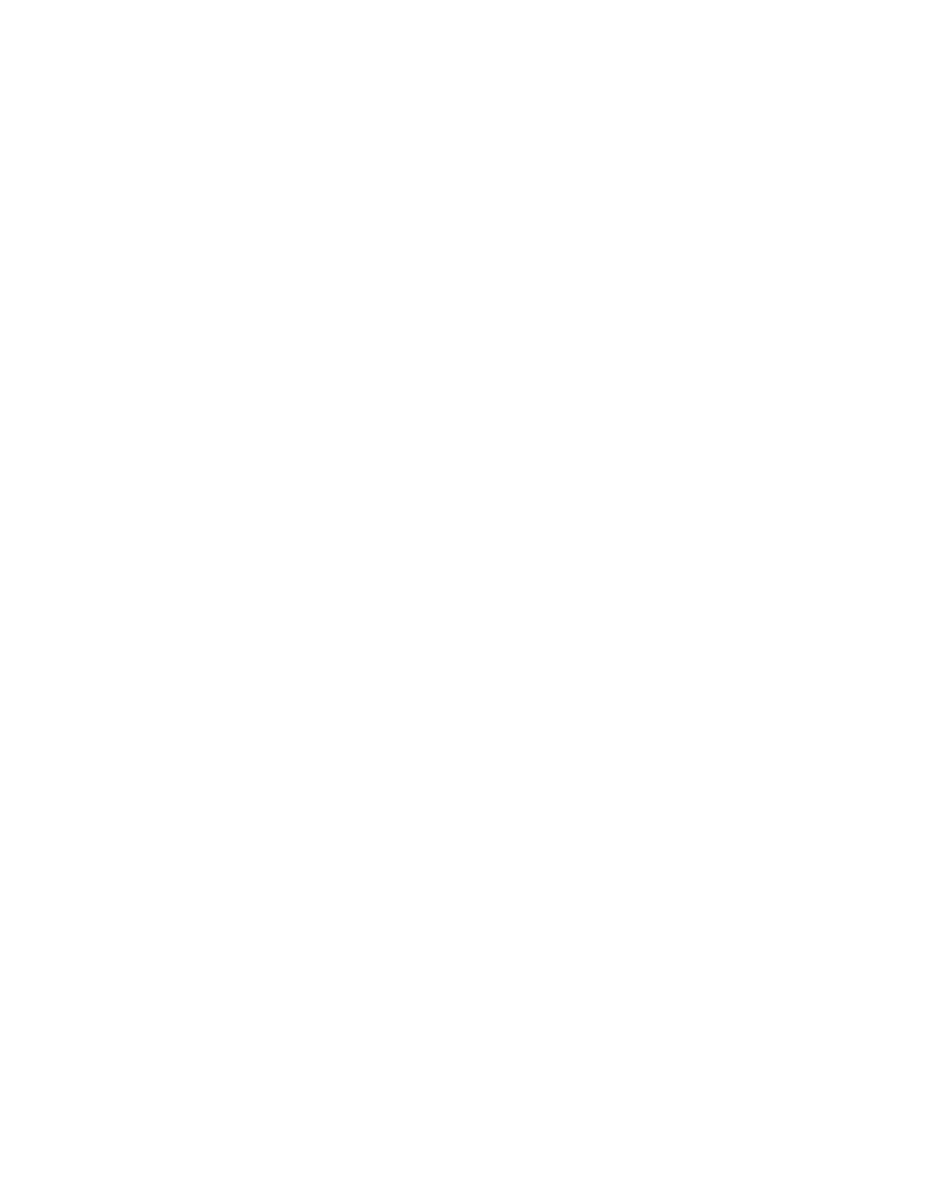
АВТОБИОГРАФИЯ
«Старов Владимир Георгиевич родился 19 января 1925 года в Смоленске в семье учителя. В 1933/34 учебном году поступил в первый класс 13-й Образцовой школы гор. Смоленска.
В 1934 году участвовал в городской олимпиаде художественной самодеятельности детей, и в 1934 году мои рисунки через инспектора Центральной Педагогической Лаборатории попали в Наркомпрос, на выставку, и оттуда на Международную выставку детского рисунка...»
НА РАХ. Ф.7. Оп.4-доп. Ед.хр.300. Л.5.
НА РАХ. Ф.63.Оп.1. Ед.хр.7.Лл.8−10об, 12.
письмо бабушки В. Старова — Анастасии Петровны Титовны, 23.IV.1934;
письма двоюродных сестер Володи — Нины и Ариадны Зайцевых, б/д;
письмо дяди художника — Валентина Семеновича Зайцева, 18.V.1934 г.;
каталог Международной выставки детского рисунка, Москва, V-VI.1934 г.
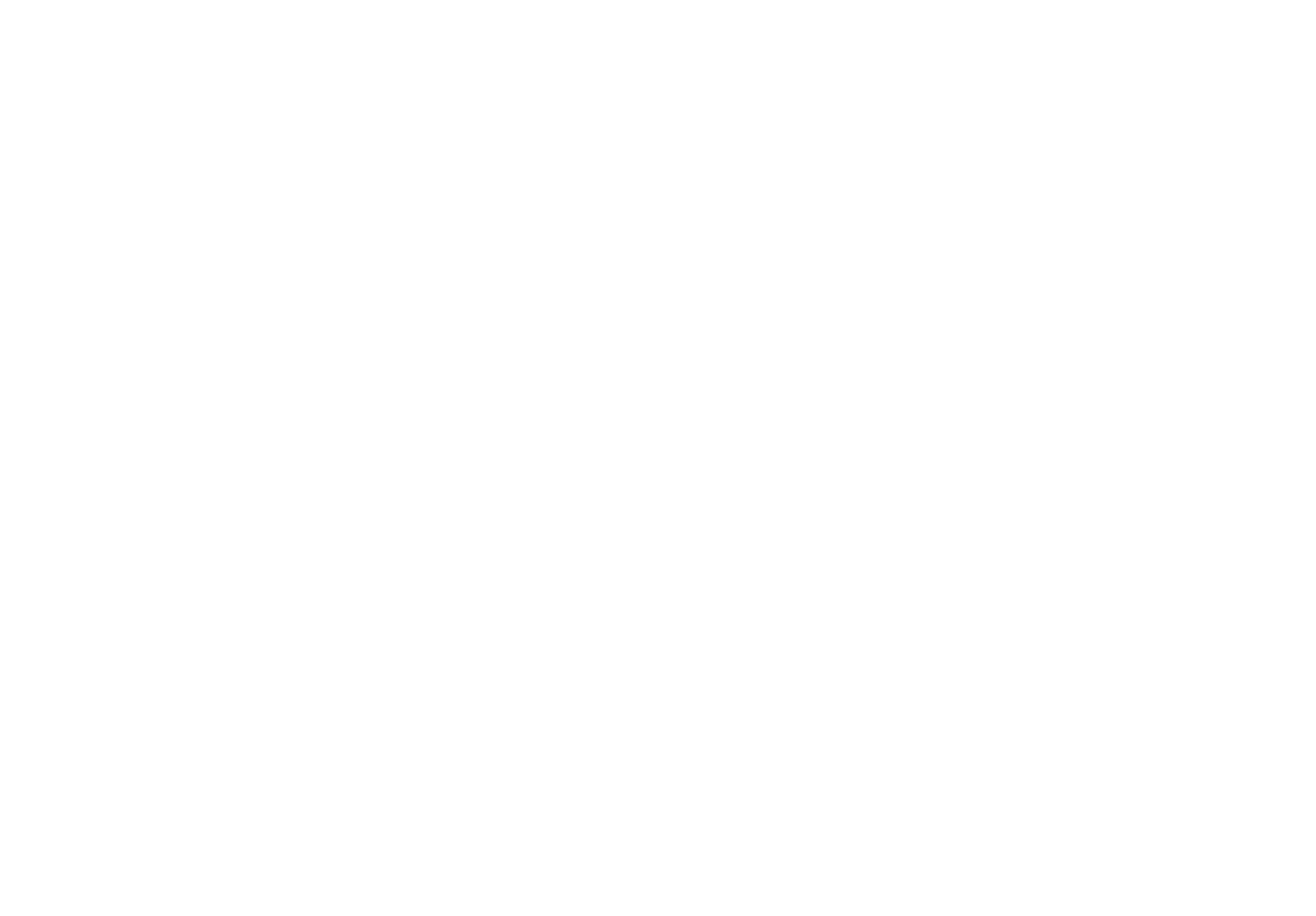
НА РАХ. IIр-15392.
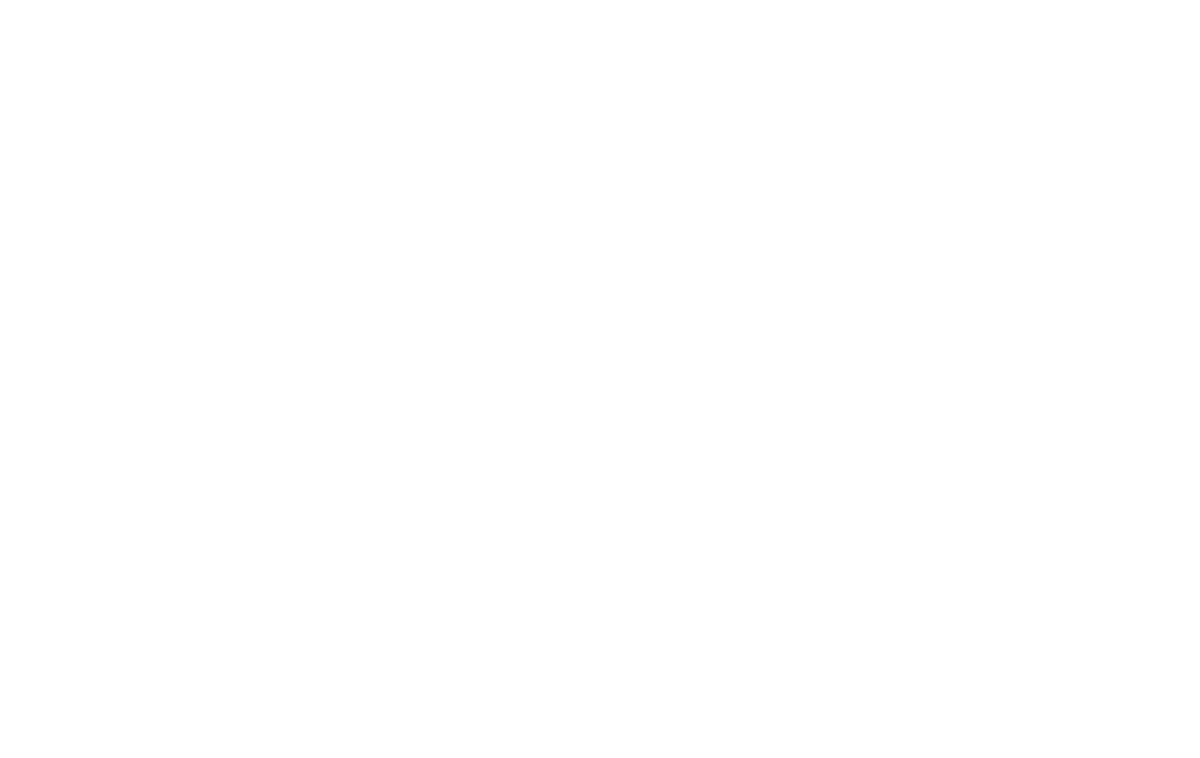
В сентябре 1935 года Центральный Дом Художественного воспитания направил меня для поступления в Школу Юных Дарований при ВАХ в гор. Ленинград, куда вместе со мной переехали мои родители. Там я был зачислен в подготовительный класс...»
Письмо Володе Старову от Нины Васильевны Танашевич, художника-педагога Центрального дома художественного воспитания детей РСФСР им. А.С.Бубнова, 1934 год.
НА РАХ. Ф.63. Оп.1. Ед.хр.3. Лл.1-2.
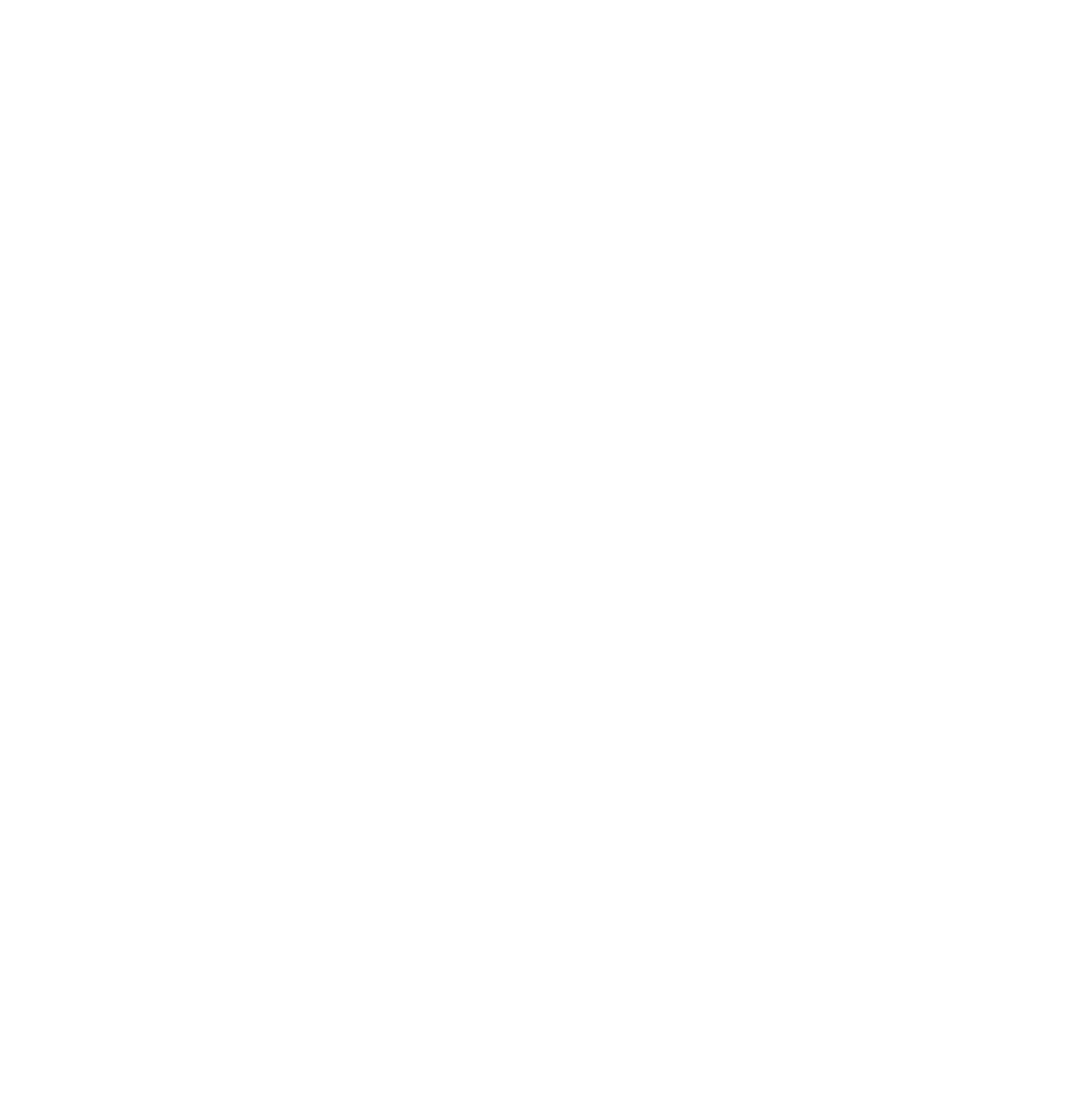
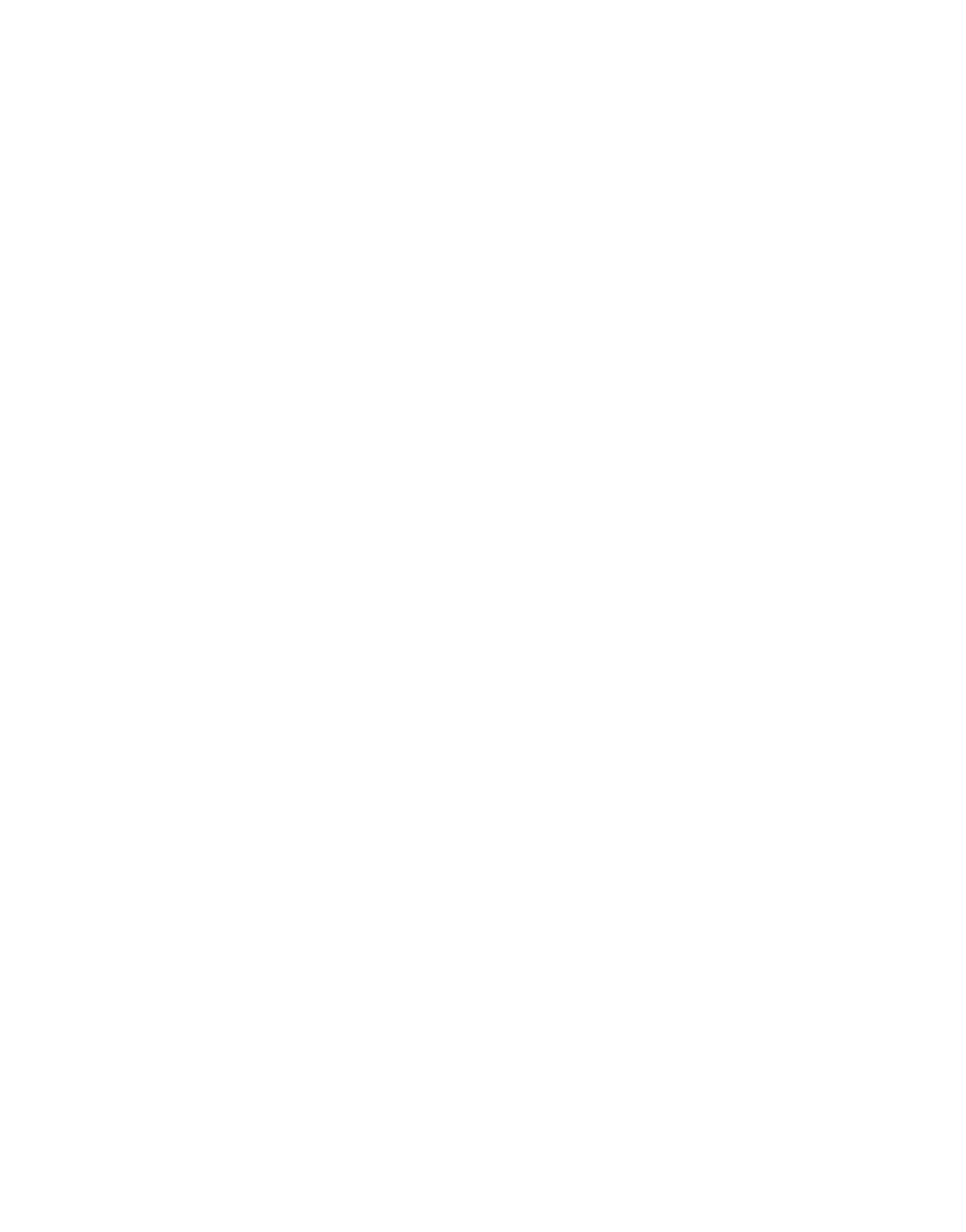
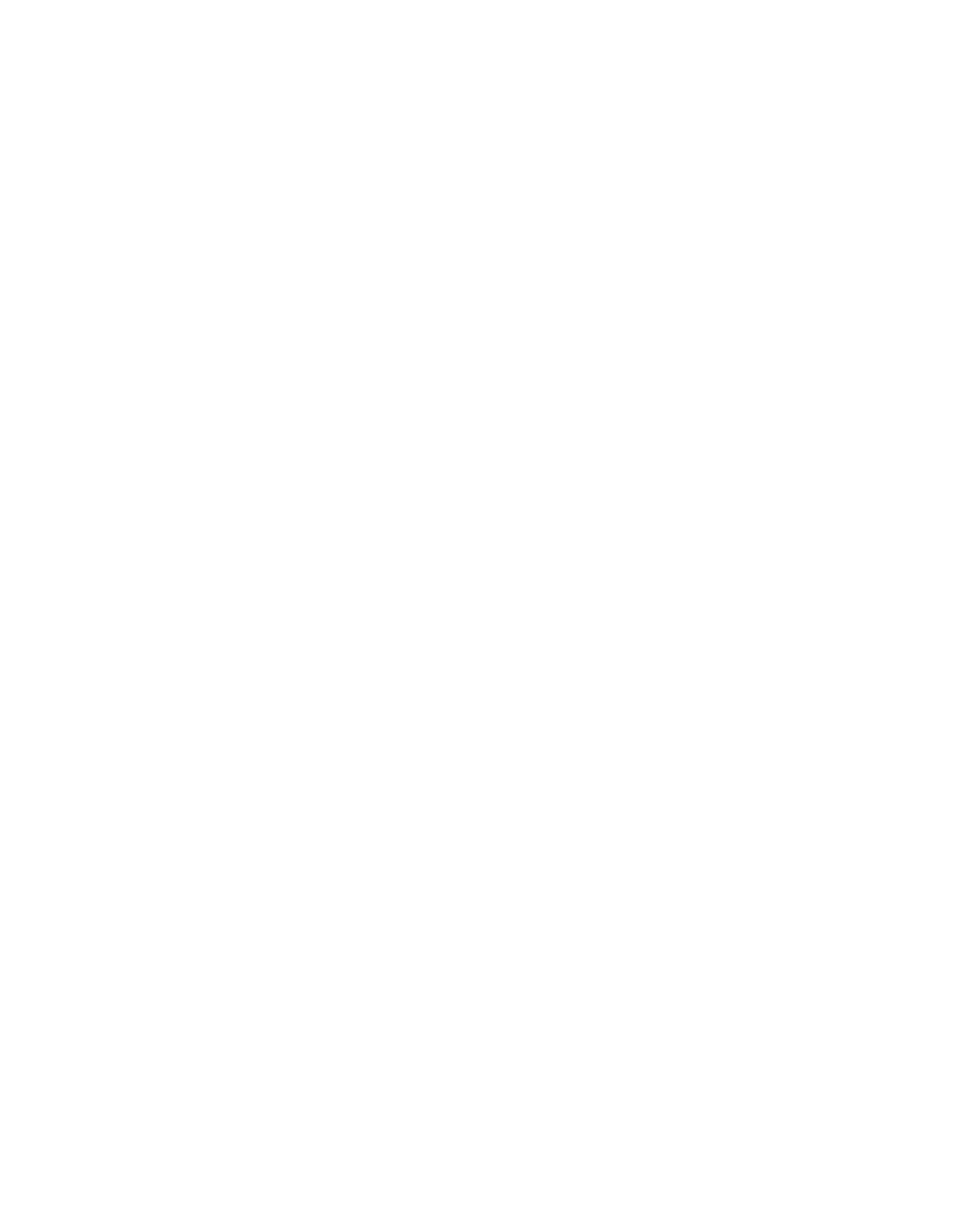
НА РАХ. Ф.63.Оп.1.Ед.хр.3.Л.38
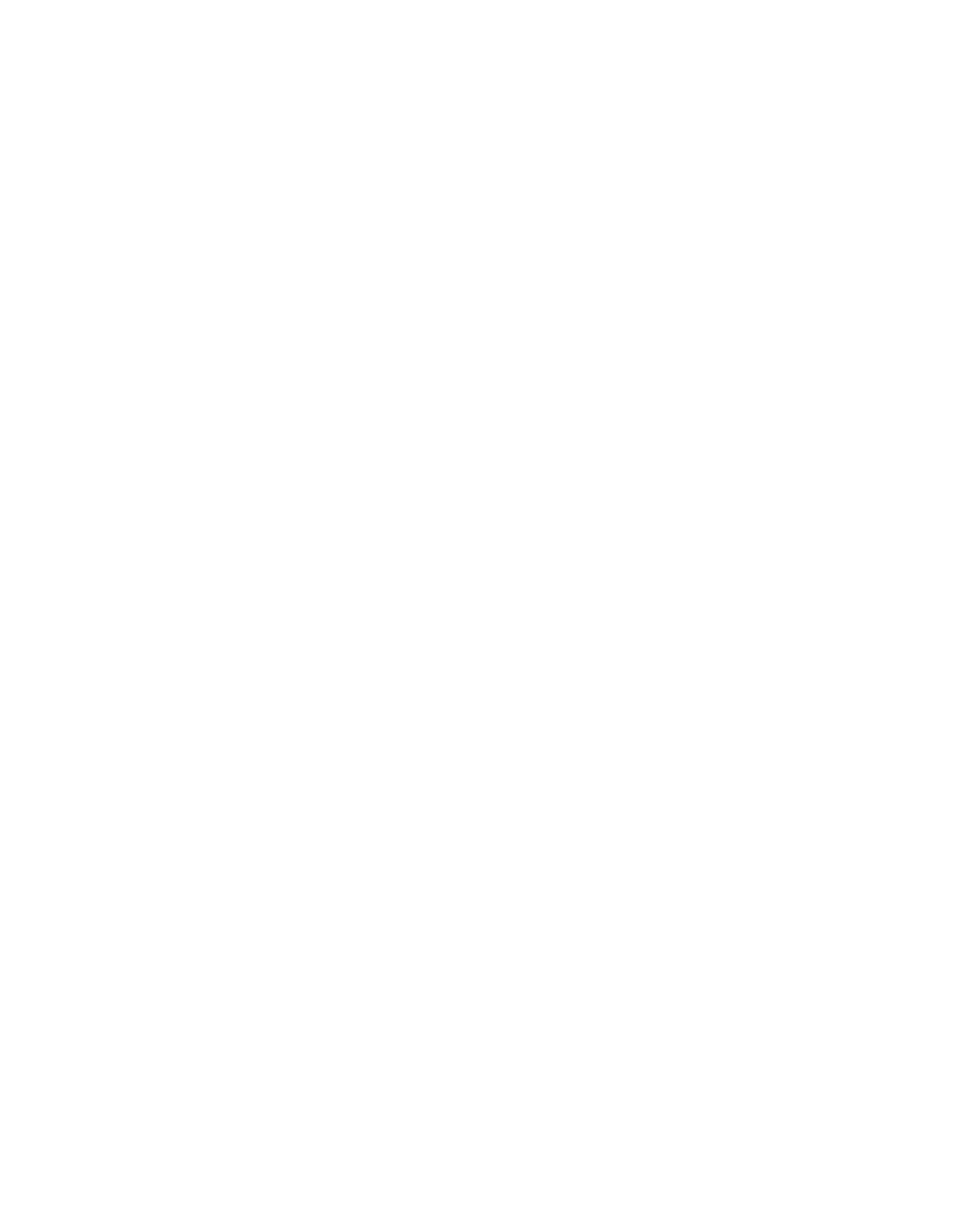
Письмо Володи Старова своей бабушке Тимофеевой Анастасии Титовне о жизни и учебе в Ленинграде.
11 февраля 1936 года
НА РАХ. Ф.63. Оп.1. Ед.хр.4. Л.35.
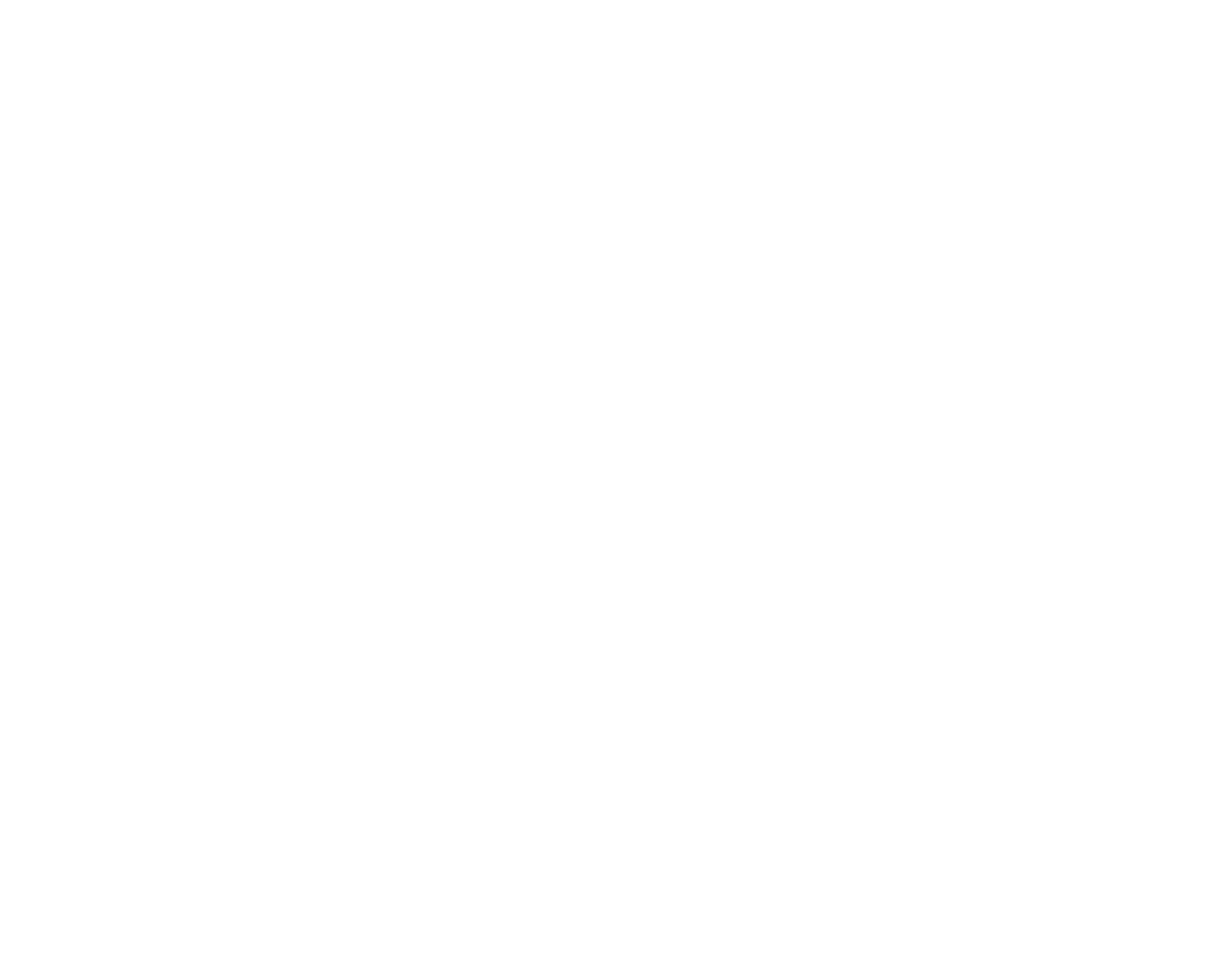
Володя Старов в центре.
НА РАХ. IIр-15394
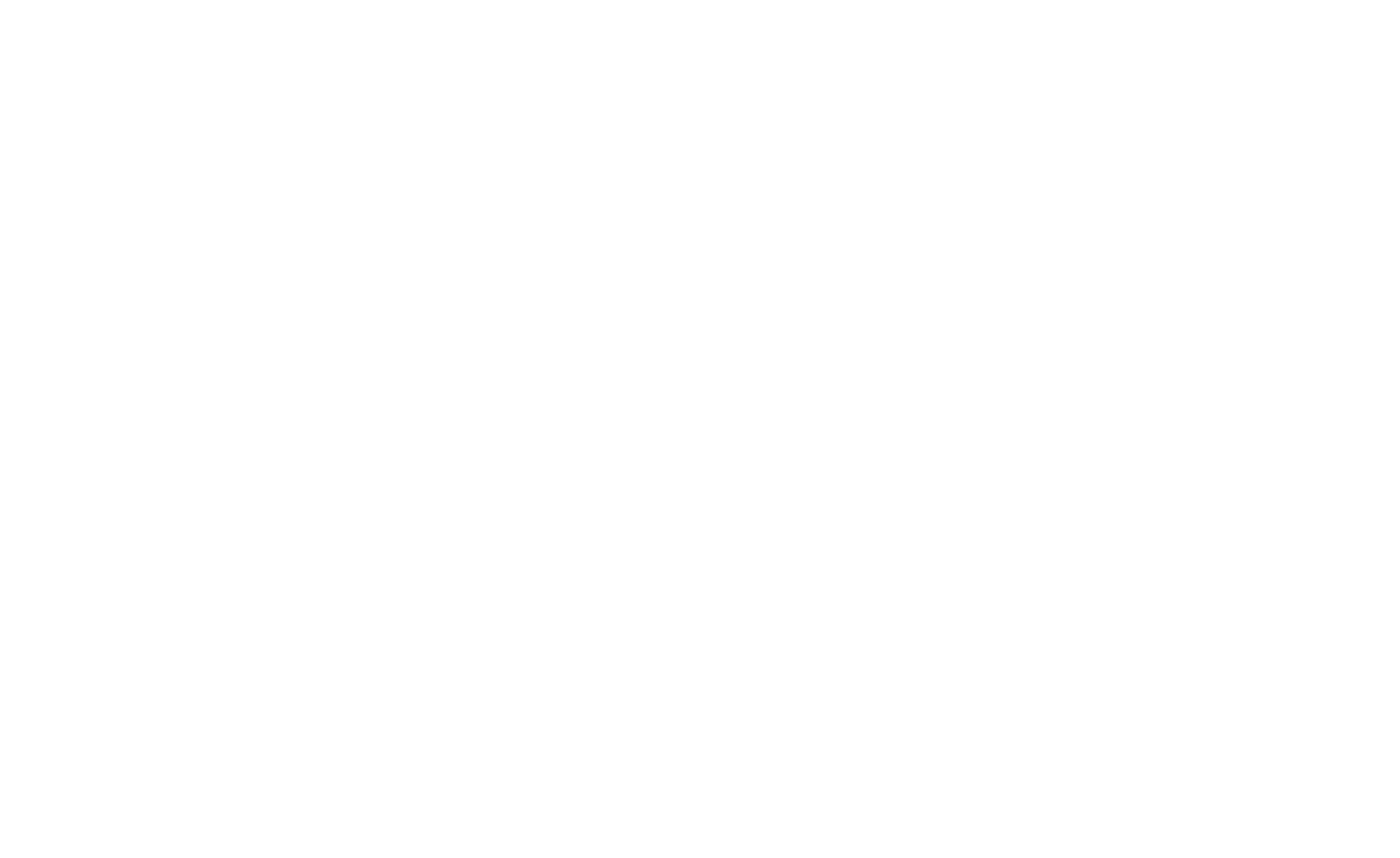
«До 1937-38 учебн. года по общеобразовательным предметам я учился в 1-й образцовой школе Куйбышевского района. С 1937/38 учебн. года года по общему образованию я стал учиться в Средней Художественной школе при ВАХ».
НА РАХ. Ф.63. Оп.1. Ед.хр.4. Л.39.
Ленинград, 1939 г.
НА РАХ. IIр-15393.
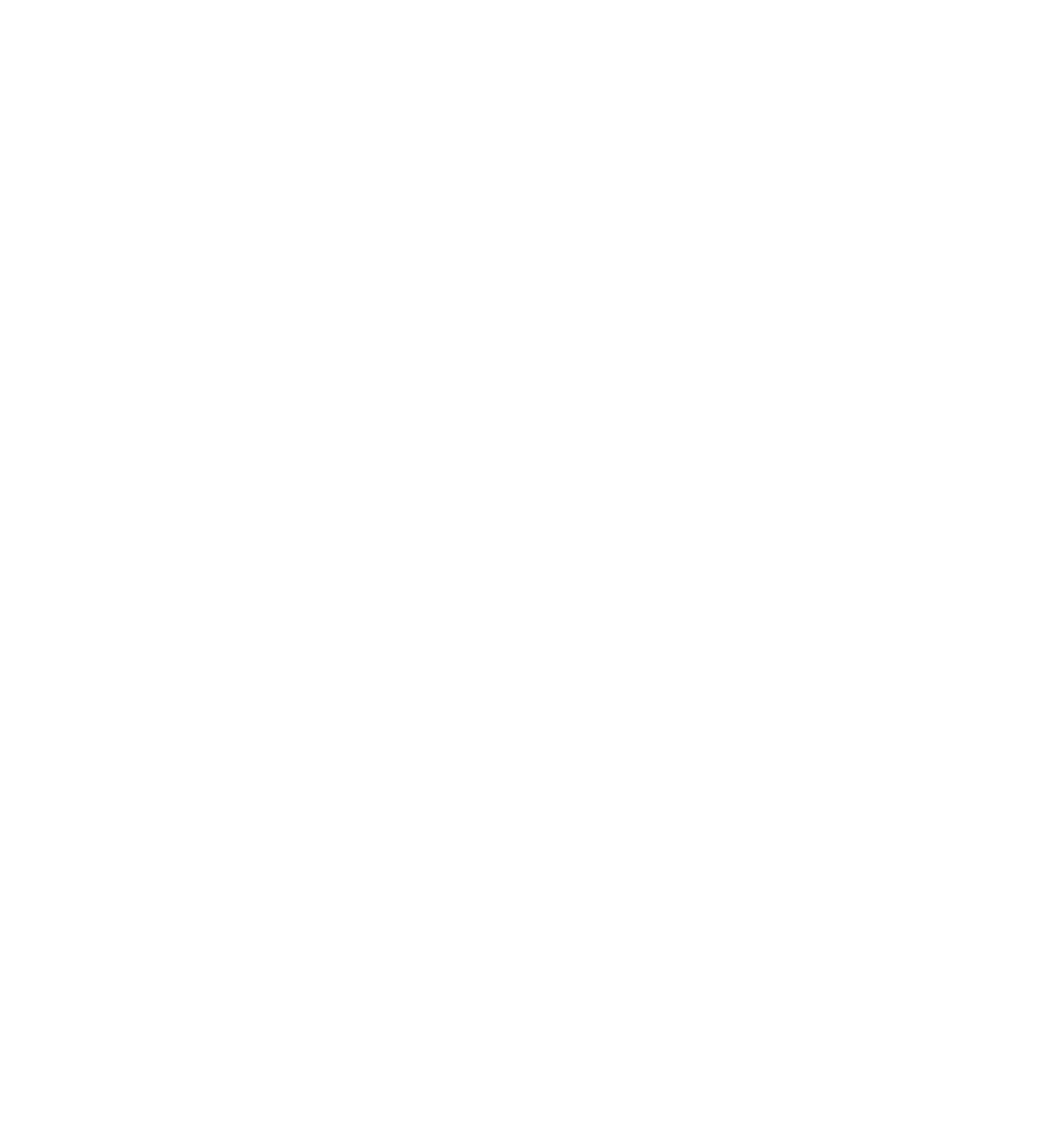
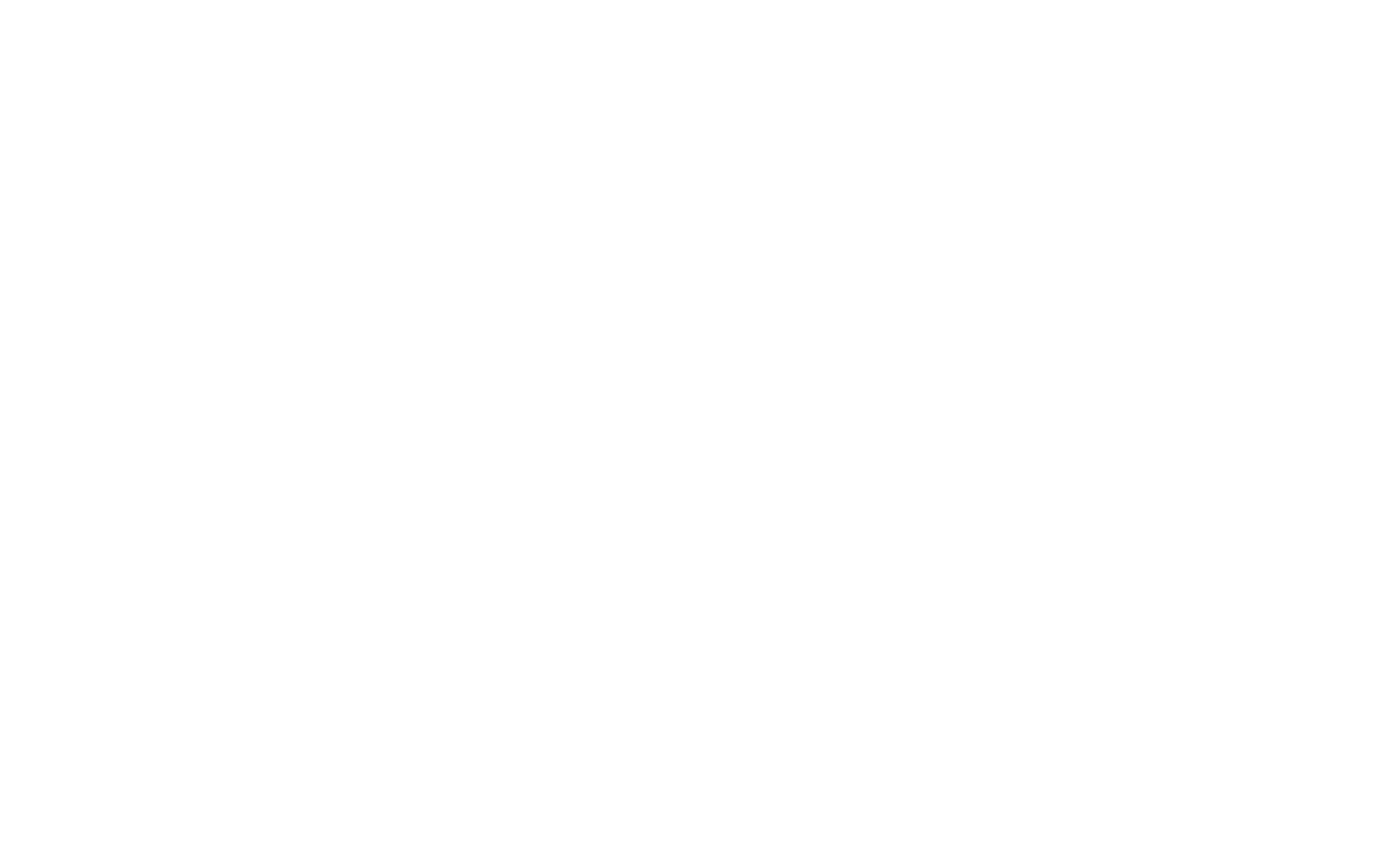
С 10 июля 1941 года шестнадцатилетний Володя Старов начал работать санитаром-добровольцем в эвакогоспитале № 2015 (ул. Восстания, 8). Эта его служба отмечена медалью «За оборону Ленинграда».
Фрагмент копии справки от 30 декабря 1944 года.
НА РАХ. Ф.7. Оп.7. Ед.хр.86. Л.7.
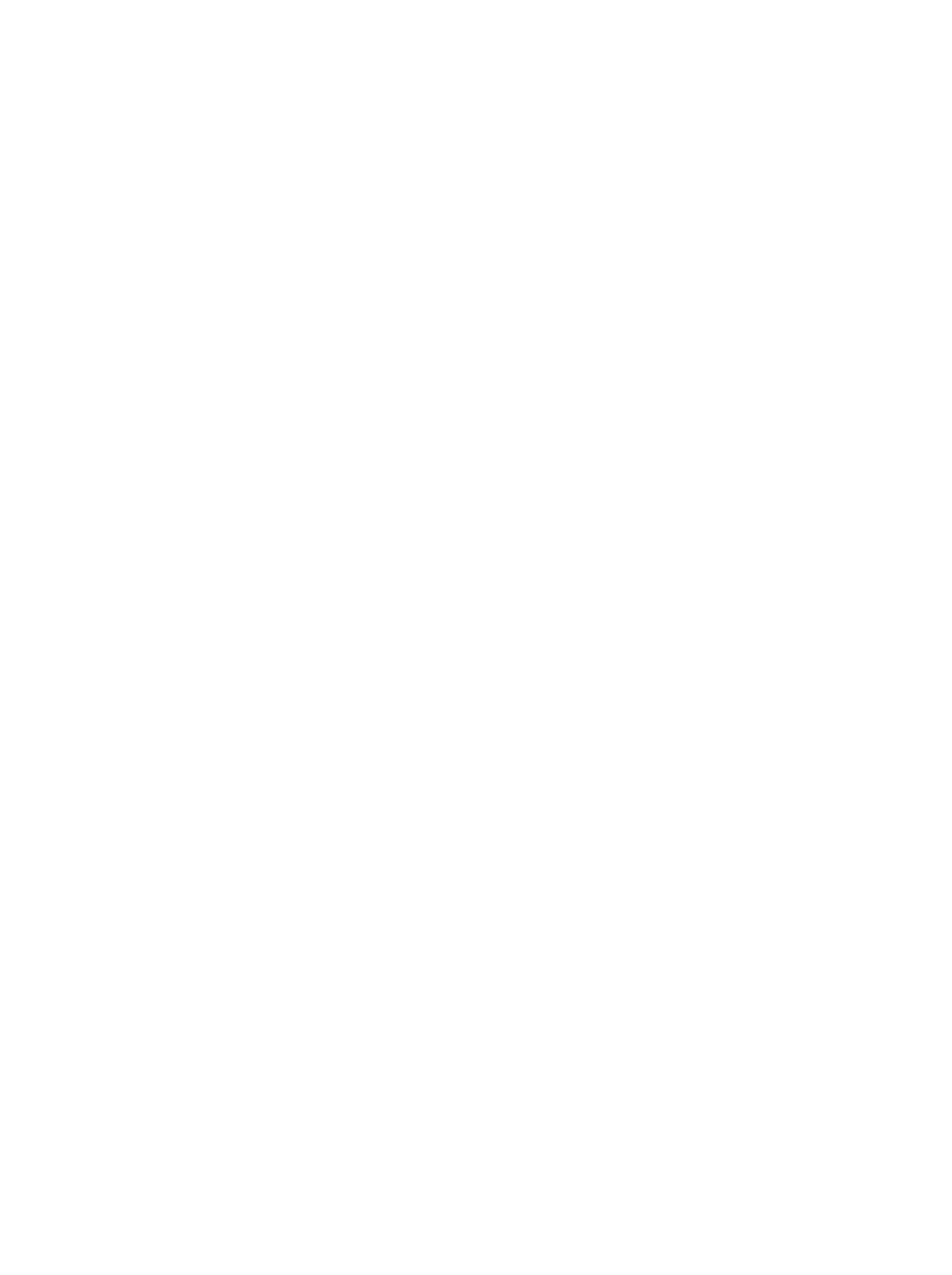
НА РАХ. IIр-15389.
«И по общему образованию, и по специальным предметам я проучился до 15-го февраля 1942 года и эвакуировался с матерью в гор. Сарапул. Окончил по общеобразовательным предметам 1-ую Сарапульскую школу-десятилетку... По окончании 10-ти классов средней школы гор. Сарапула меня призвали в ряды Советской Армии...»
НА РАХ. Ф.63. Оп.1. Ед.хр.4. Л.42а.
В.Г. Старов был призван Сарапульским районным военкоматом на действительную военную службу 19 января 1943 года.
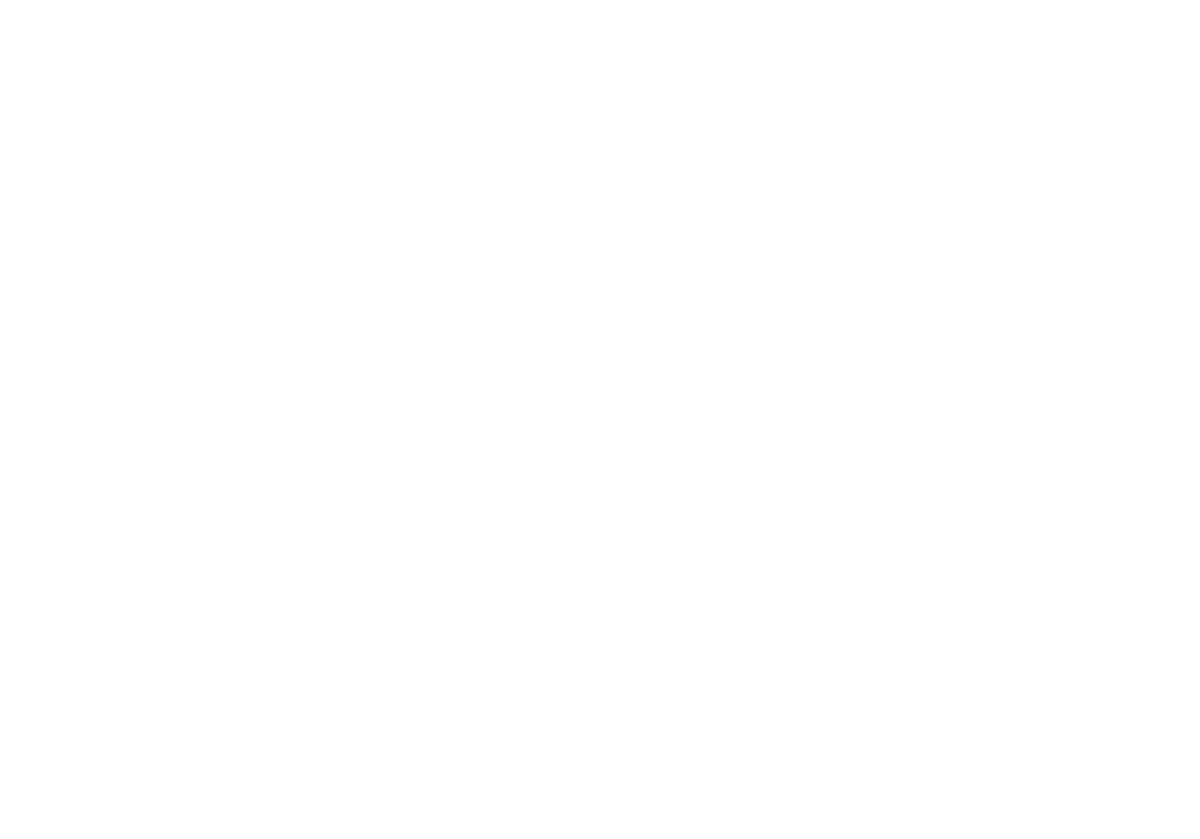
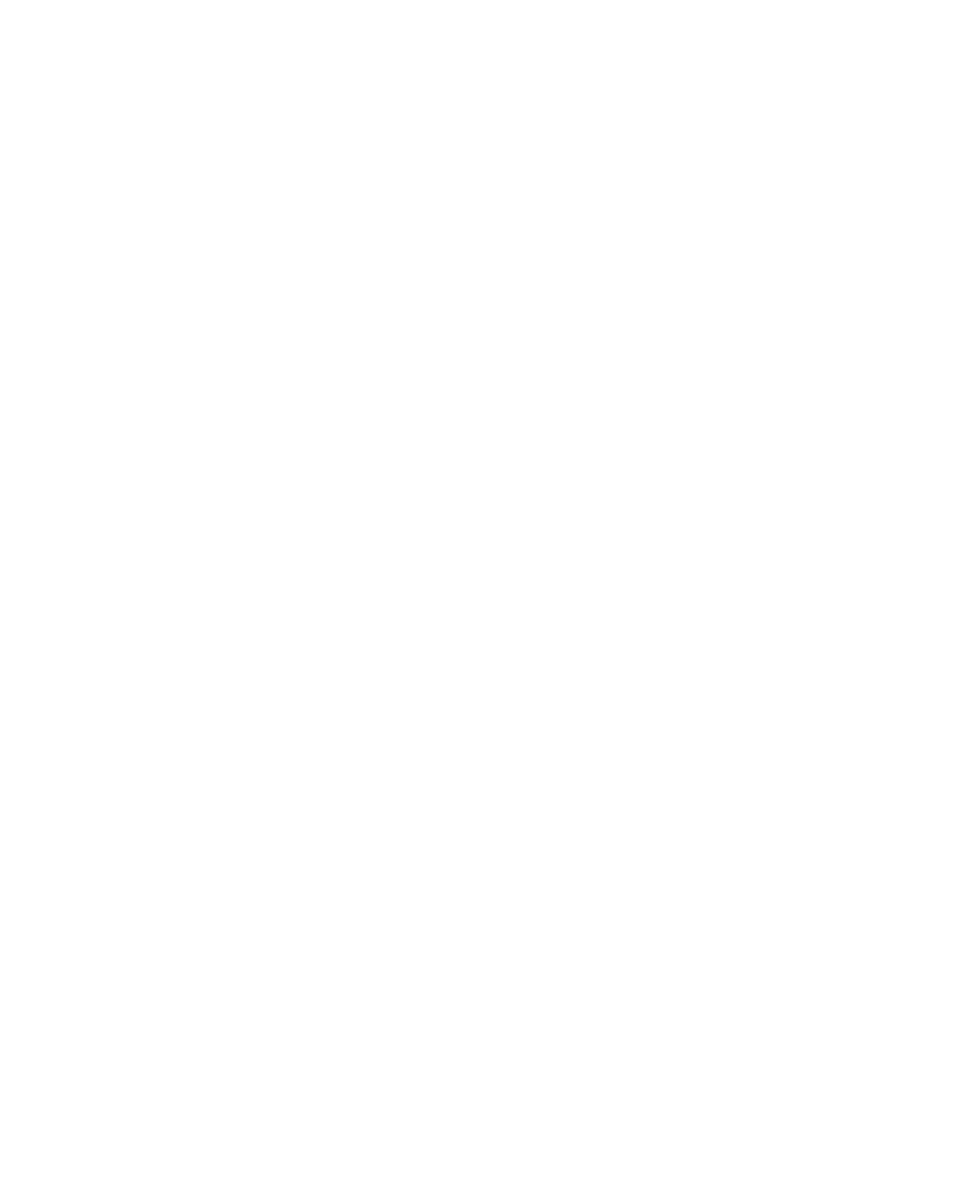
Боевое крещение состоялось на 1-м Белорусском фронте под Гомелем в 1943 году. В конце ноября после форсирования реки Сож Гомель был взят.
22 февраля под деревней Михайловка Владимир Георгиевич получил осколочное ранение, но вскоре вернулся в строй к обязанностям помощника командира взвода управления.
Владимир Георгиевич много раз участвовал в разведывательных операциях по определению огневых точек противника. В наступающих рядах Советской армии дошел до Минска и Бреста, освобождал Варшаву. Войну закончил в Германии. Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
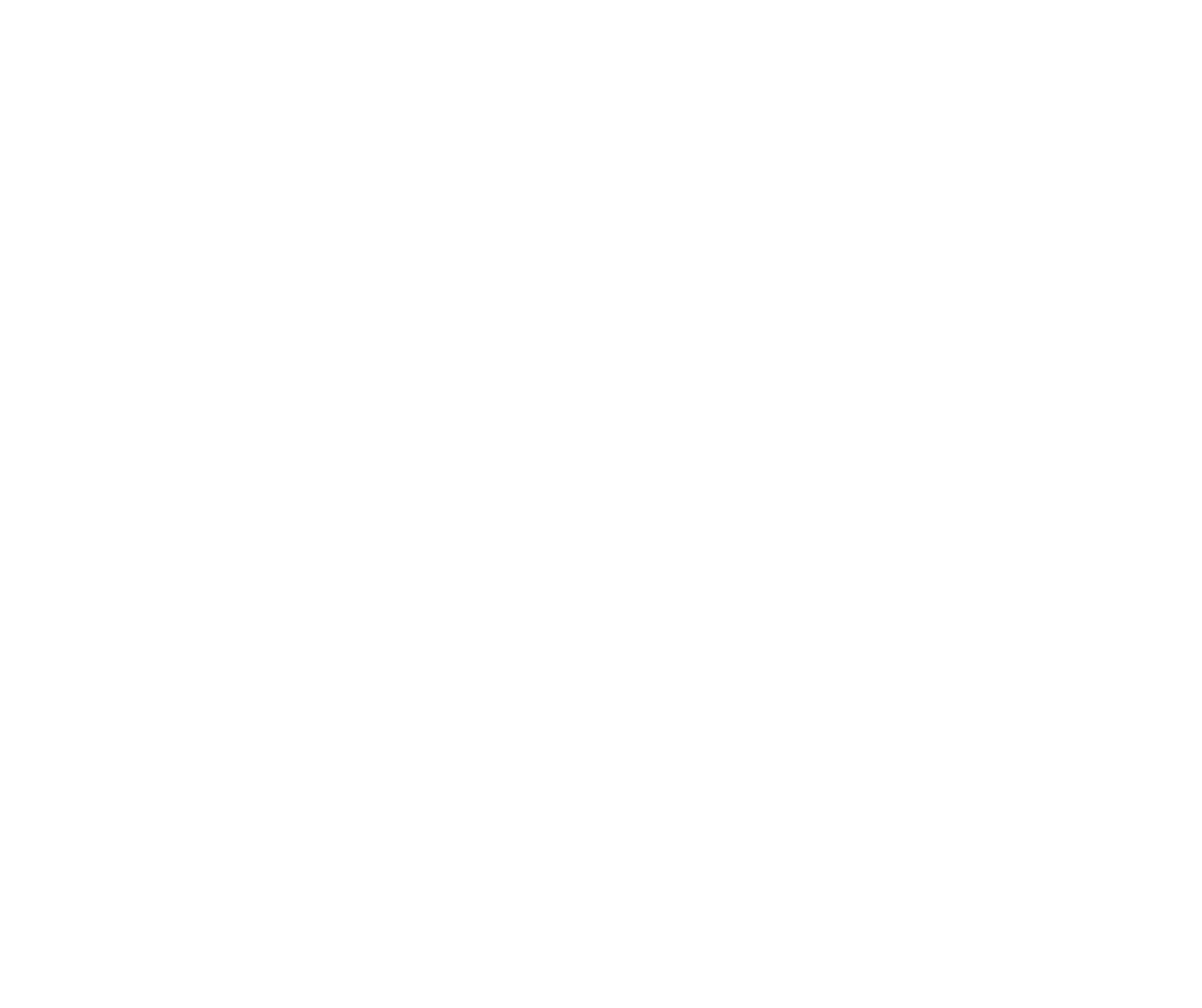
Рейхстаг.
Фронтовой рисунок.
1945 год
НА РАХ. III-10919.
Воспоминания В. Г. Старова об участии его
в Великой Отечественной войне
НА РАХ. Ф.63. Оп.1. Ед.хр.6.
в Великой Отечественной войне
НА РАХ. Ф.63. Оп.1. Ед.хр.6.
К тому времени, когда я был призван из 10 класса Сарапульской школы в ряды действующей советской армии, я уже много знал о войне и много пережил. За моей спиной уже была блокада Ленинграда. Жуткая стужа и голод. Уже тогда знал, что такое смерть, так как уже наработался в операционной 1-го отделения эвакогоспиталя 2015, который был в помещении бывшей школы на улице Восстания, 8. Я тогда был учеником 8 общеобразовательного и 5-го специального класса Средней Художественной школы при ВАХ. В госпитале я был санитаром-добровольцем, работал по ночам без денежной и продовольственной компенсации.
Итак, до 15 февраля 1942 года я был вывезен из Ленинграда по дороге жизни и чуть не умер от холода на станции Войбокало уже на той стороне Ладоги. Спасибо маме моей, это она не дала мне умереть. В Сарапуле же куда мы были эвакуированы, не было даже светомаскировки, работало кино и летом городской сад с танцами и опереттой. Было странно...
Когда я шел с матерью по улице или хотел что-то из одежды выменять на базаре на продукты, многие шарахались от нас в сторону из-за жуткой худобы и черноты наших лиц и рук. А вот с октября 1943 года я на фронте, в 1-м бою по форсированию реки Сож у местечка Ветки, что километрах в двадцати от Гомеля на реке Сож. В 1944 году мы долго, долго воевали где-то между Жлобином и Рогачевом. Потом форсирование реки Друть, притока Днепра, в двух километрах от Рогачева, напротив деревни Заполье, которая в стереотрубу была видна на горизонте. Бобруйский котел произвел на меня незабываемое впечатление: столько разбитой германской техники, столько убитых фашистских солдат и столько пленных — десятки тысяч.
А потом через Минск и Брест (вернее, рядом) — к границам Польши.
Я был артиллерийским разведчиком, а потом и командиром отделения батальонной разведки, что является помощником командира взвода управления. Видел поэтому много и воевал больше в пехотных траншеях на самой что ни на есть передовой. Такова судьба артиллерийского разведчика. В Польше был и в Праге (предместье Варшавы), и под Вышкувом, и в Вавере, и под Люблином, и в Бромберге (Быдгощ), и под Торном (Торунь), и снова на Висле на Пулавском плацдарме — в момент взятия и освобождения Варшавы, сразу же после Старого Нового года. Так что Бромберг и Торн были уже потом.
К границе фашистской Германии вышли у города Шнайдемюля — первый немецкий город на моем пути. Там были тяжёлые уличные бои, в которых я участвовал. Именно там я потерял больше всего своих товарищей из взвода, чем во всех других местах вместе взятых. Это солдат Мигунов — разведчик, солдаты Соловьёв и Николай Болычев — связисты, и из соседних взводов много наших друзей.
Город был взят ранним утром.
Брал я и город Штатгардт, и Альтдам, что на правом берегу Одера напротив Штеттина. Странная ситуация сложилась под Франкфуртом на Одере. Когда мы перешли Одер у Франкфуртского плацдарма, то нам встретились две деревни, которые не были взяты, когда другие наши части двигались вперед. Это деревни Малый Маркендорф с круговой обороной, где сражались в основном гитлерюгенд, и деревня Большой Маркендорф. Брали эти деревни какие-то пехотные части, отряд самоходных орудий и несколько наших разведчиков вместе со мной.
Мы повернулись в сторону Франкфурта. Была прекрасная солнечная погода — весна. Немцы из Франкфурта стреляли очень много. Это был признак того, что они собираются отходить, предварительно расстреливая свои боеприпасы, которые не могут взять с собой. Сильная была канонада. И вдруг мы увидели, как над Франкфуртом к вечеру был сбит наш самолет. Он горел и снижался над Франкфуртом. К ночи стало тихо. Меня разбудил взводный и сказал, что есть сведения, будто бы немцы отходят из города.
«Проверить!» — сказал командир взвода. Я взял разведчика и пошел в кромешной тьме к немецким траншеям. Было так темно, что мы только по звуку ощущали соседство друг друга. Вошли в немецкие траншеи — никого, тишина! Вошли во Франкфурт в районе завода. Какая-то старуха несла ведра и, услышав наш топот и сопение (мы шли быстро, посередине улицы, вдвоём, автоматы наготове), выронила ведра. Она думала, в городе еще немцы, и никак не ожидала увидеть двоих русских. Мы шли долго и увидели двоих немецких солдат, которые издали, погрозив нам кулаками, растворились, как протоплазма, в проходных дворах.
А потом мы увидели издали что-то наподобие делегации из 6–7 человек, которые стояли среди улицы и снимали шапки. Эти уже знали, что немцы ушли, а до этого нам встречались случайно отставшие солдаты, которые убежали от нас. Эти же были гражданскими. Я дал команду всем поднять руки. Они выполнили и стали что-то объяснять, не договаривая до конца, в чем дело. Они попросили нас пройти с двумя из них. Вели нас минут 10–15 какими-то дворами, проходами, закоулками. Я думал, что это ловушка какая-то, и снял с пояса гранату. Предупредил их. Они клялись, что ловушки нет, но ничего не говорили, зачем нас ведут. Вошли в какой-то темный подвал. Разведчика я оставил у входа, немцев поставил впереди, но намного ближе к себе, чем они были раньше. Граната и автомат наготове. За шторой в каком-то подвальном затерянном помещении сидел на кровати, как вы думаете, кто? Советский летчик. Сидит и целится из пистолета в нашу сторону. Видимо, заслышал шаги и стал целиться. Думал, веду к нему немецких солдат. Увидел нас — повалился навзничь, слезы радости на глазах. Подхожу, смотрю — кисти рук обожжены, закутаны каким-то тряпьем. Оказалось, это летчик с того самолета, который был сбит в последний солнечный вечер. Гражданские немцы его быстро спрятали и вот утром отдавали его мне. Долго мы возились с раненым, долго ждали, когда кто-либо появится вслед за нами. Прошли какие-то солдаты и потом санинструкторы, сколько их было — не помню, кажется, две девушки, одна — так я помню точно, но, кажется, двое, летчика мы им и сдали. Как его фамилия, откуда он — я не спросил. А зря. Но ведь мы тогда не собирались писать мемуары, и было нам мало лет — всего по двадцать. Но написал я карандашом на клочке бумаги: «В комендатуру. Предъявителю этой справки — немцы в количестве 6–7 человек (сейчас точно не помню) сдали мне на руки советского летчика, сбитого над Франкфуртом накануне вечером». Может быть, кто-то из этих немцев еще жив, а может быть, кто-нибудь из них где-нибудь в магистратуре работал или работает, а то и мэром города был? Чего только не бывает!
Пошли дальше через Лукенвальде на запад — южнее Берлина в направлении города Цербст (провинция Ангальт-Цербст). Боев на нашем пути было мало. В это время всё было в Берлине. А мы выходили ближе к американцам, так как после 9 мая, которое мы встретили ночью в полутора километрах от дворца, где родилась императрица российская Екатерина II, чей отец был курфюрстом провинции Ангальт-Цербст, стали встречаться на дорогах редкие «Виллисы» и «Доджи», под которыми лежали негры в форме американских солдат и ремонтировали свои машины. Зачем они приезжали на территорию, занятую нами, мне неизвестно. А после того, как ночью кругом до горизонта вспыхивали ракеты победного дня, его начала, так как было еще темно, то после — ранним утром — я срезал веточку цветущей яблони и выслал в письме своей маме. Эта веточка до сих пор хранится у нее.
18.3.1979.
В феврале 1948 года В. Г. Старов участвовал в конкурсе по изобразительному искусству в честь ХХХ-летия Советской Армии, за представленную работу «Освобождение из концлагеря» был награжден грамотой и ценным подарком — велосипедом.
После демобилизации в апреле 1949 года восстановился в числе учащихся VII специального класса Средней Художественной Школы.
НА РАХ. Ф.63. Оп.1. Ед.хр.8. Л.10.
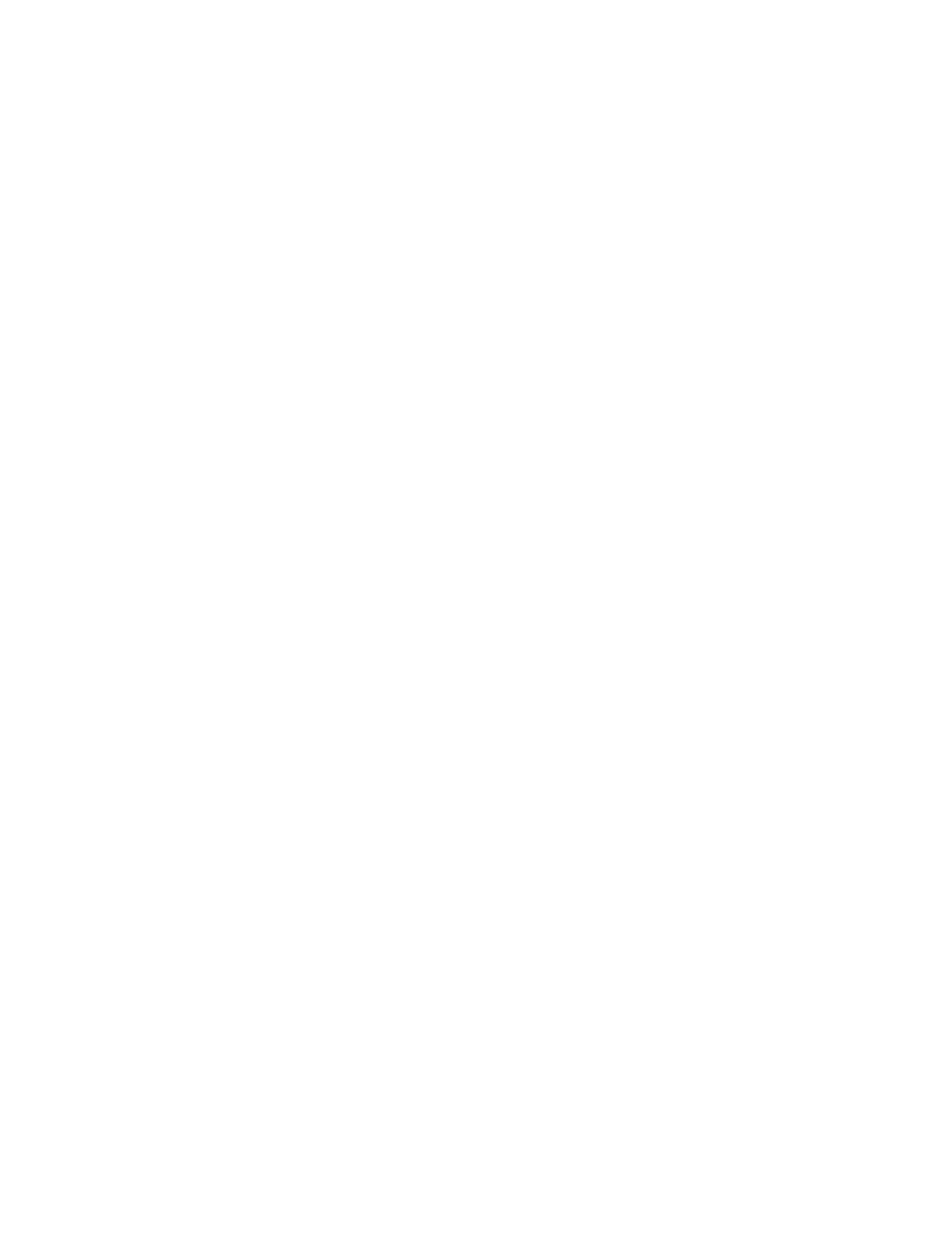
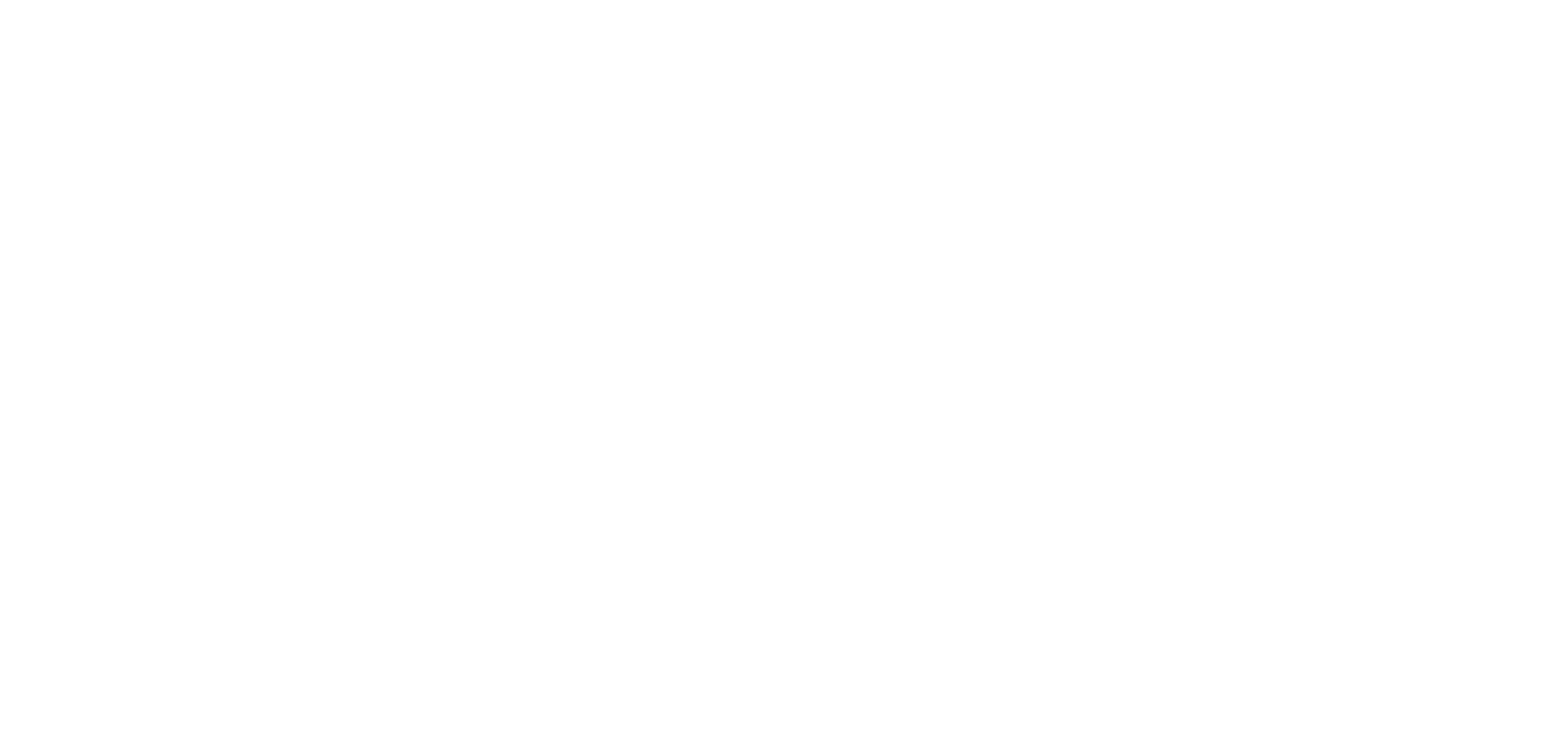
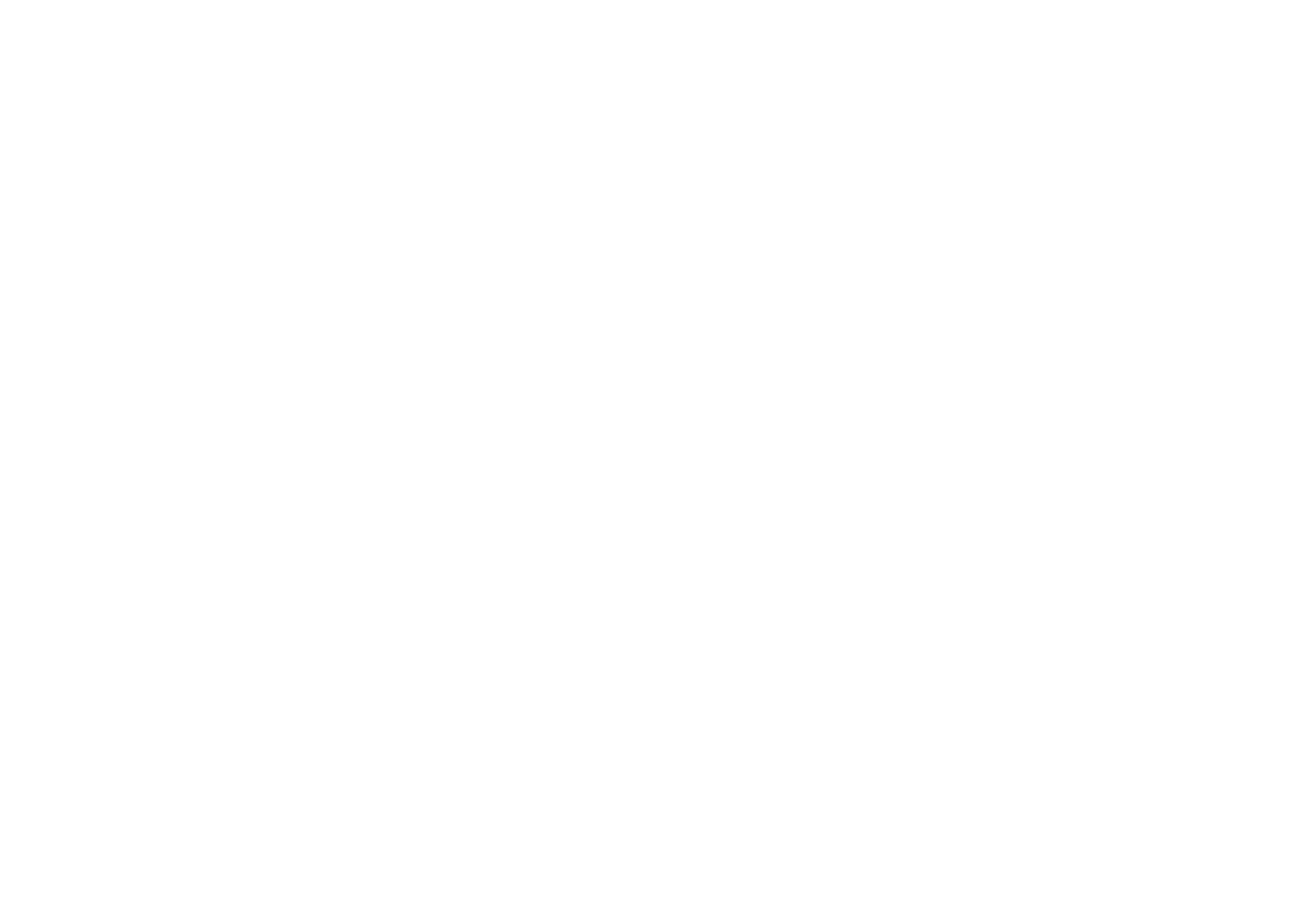
Средней Художественной Школы.
Ленинград, 1949 г.
НА РАХ. IIр-15395
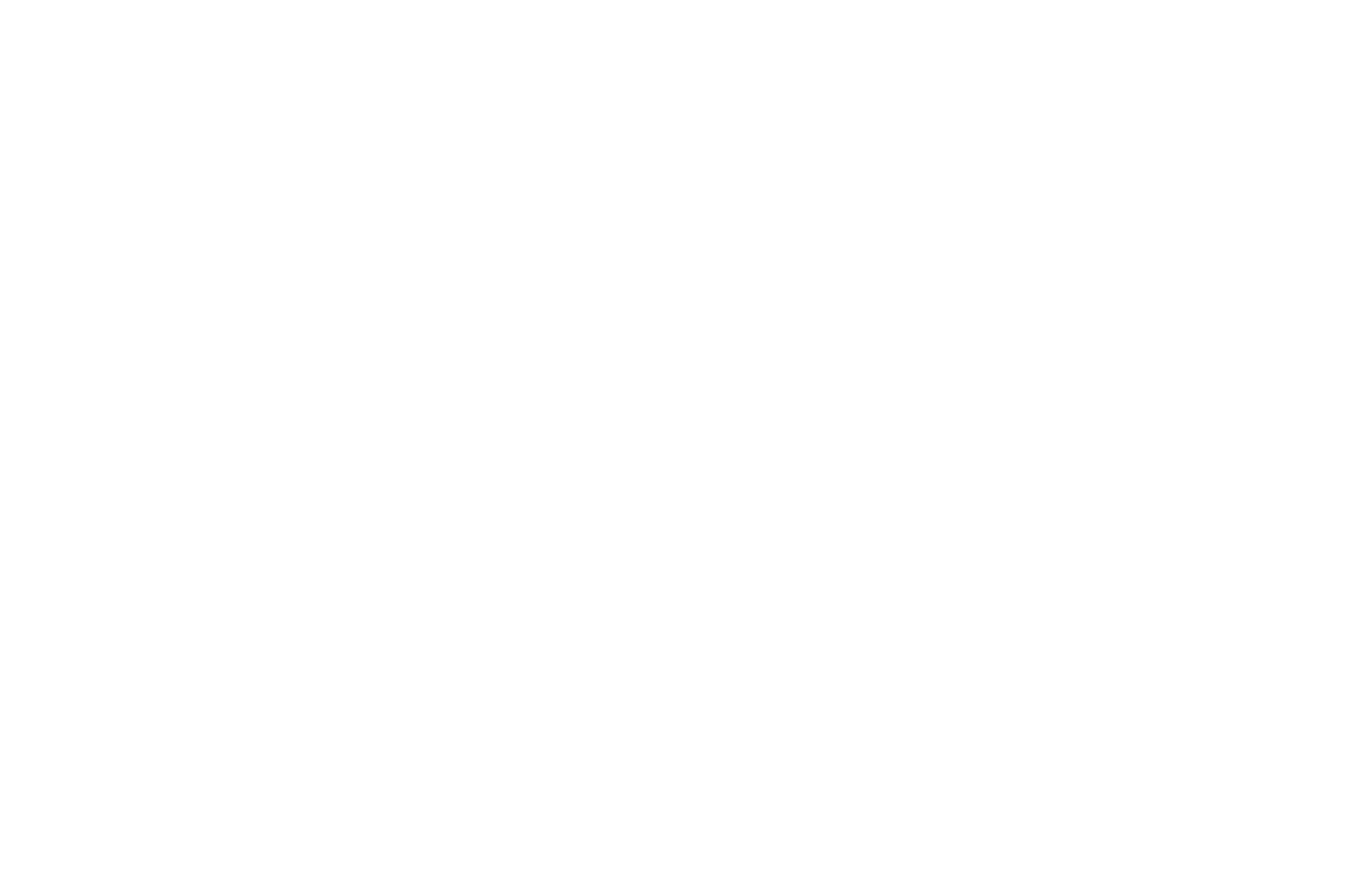
в Институт им. И.Е. Репина Академии Художеств СССР и его экзаменационный лист, 1953 год
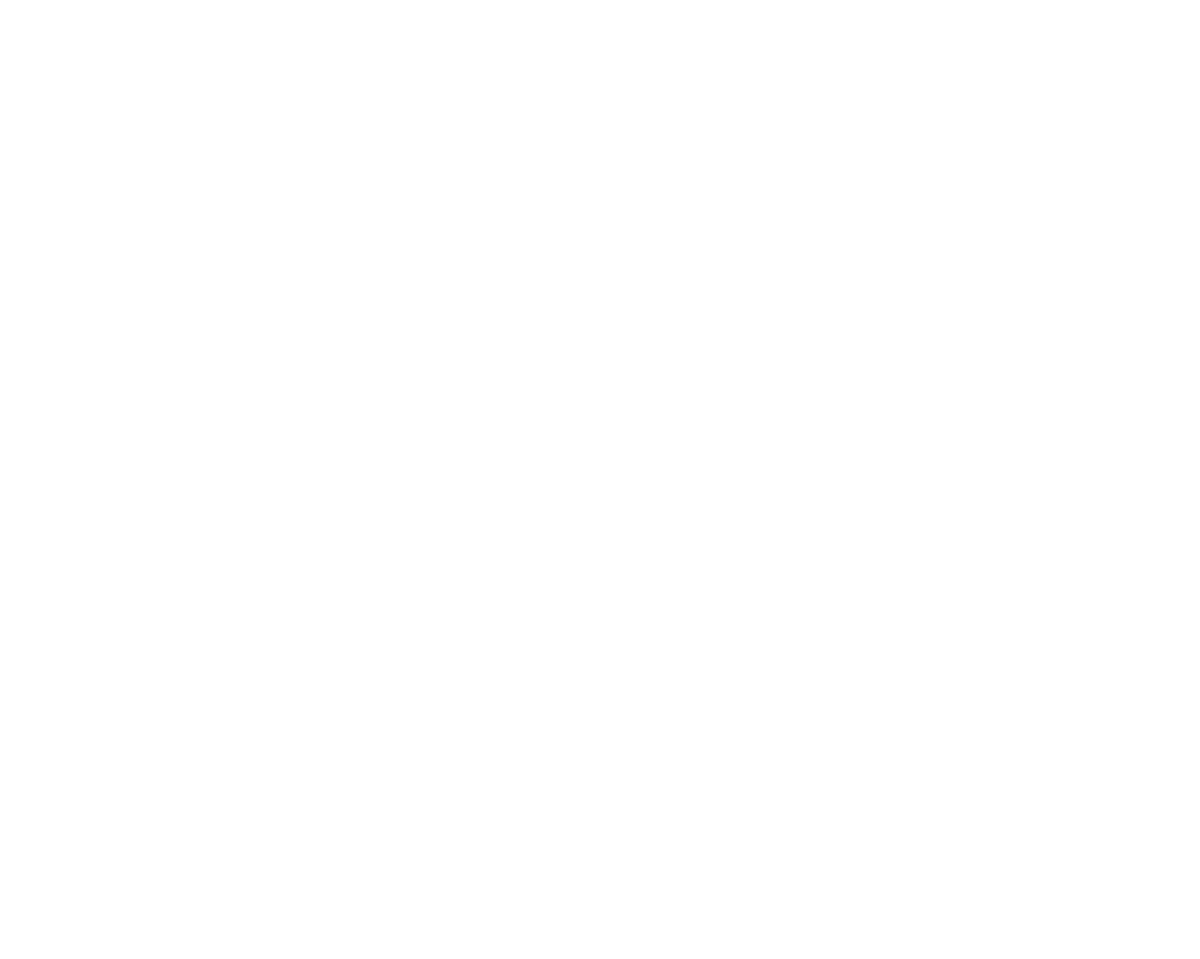
26 августа 1953 года, согласно приказу № 186, Владимир Георгиевич Старов зачислен по конкурсу на графический факультет Института живописи, скульптуры и архитектуры им. И. Е. Репина Академии Художеств СССР.
НА РАХ. Ф.7. Оп.7−1953. Ед.хр.86. Л.10.
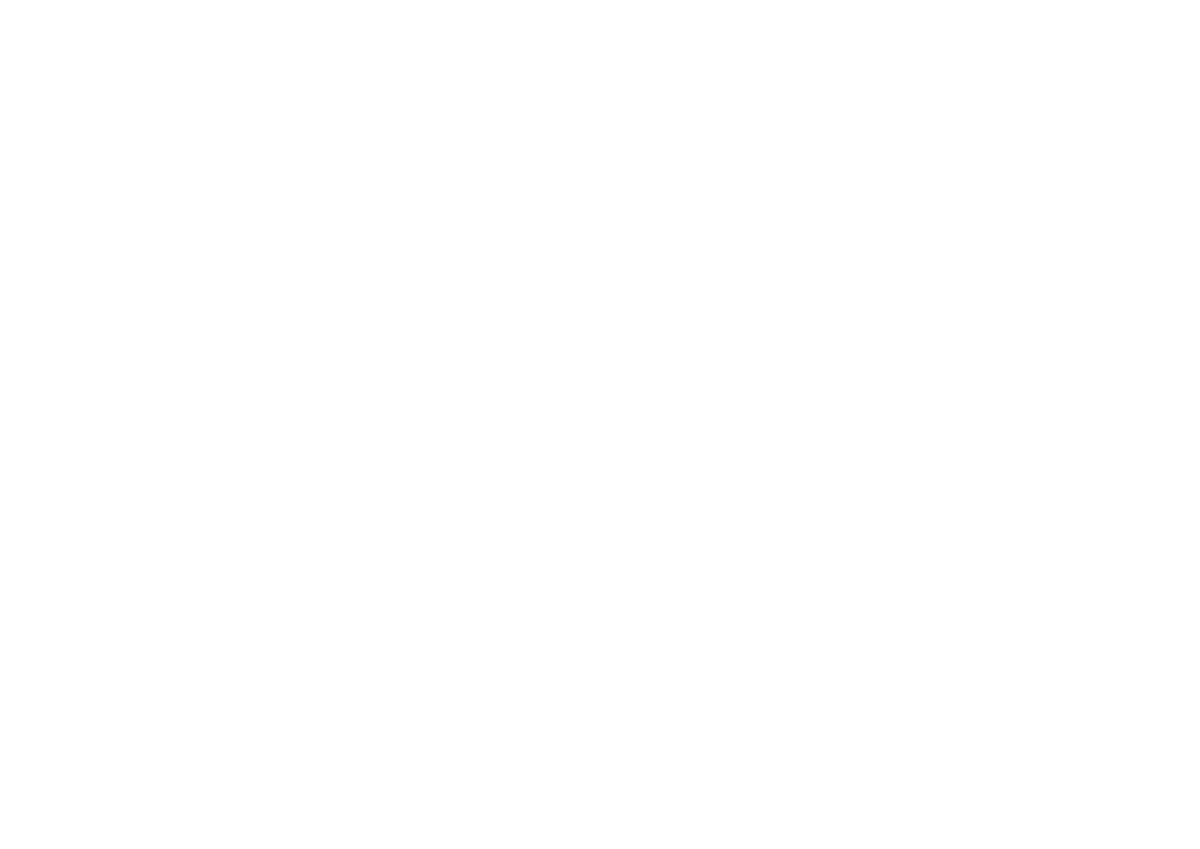
Владимир Георгиевич Старов много лет преподавал на графическом факультете Института живописи, скульптуры и архитектуры имени И.Е. Репина (с 1960 по 2009 год).
В 1993 году ему присвоено звание «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации», в 2002 году — «Народный художник Российской Федерации».
Ушел из жизни Владимир Георгиевич 29 августа 2013 года. Произведения мастера можно увидеть во многих музейных коллекциях нашей страны, в том числе в Третьяковской галерее. Также они хранятся в частных коллекциях в России и за её пределами.
*Центральная педагогическая лаборатория (ЦПЛ) - научно-исследовательское учреждение Наркомпроса РСФСР, организованное в 1932 на базе Первой опытной станции по народному образованию. Цель работы - сбор, изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших начальных школ и передовых учителей, разработка и опытная проверка в школе системы и методов обучения. Имела в составе 4 сектора: педагогики и частных методик начальной школы; учебных пособий, изучения состояния учебно-воспитательной работы; методической помощи учителям. В августе 1937 года ЦПЛ реорганизована в Центр научно-исследовательского института начальной школы.
Педагогическая энциклопедия/Глав. ред. И. А. Каиров и Ф. Н. Петров. т. 4. - М.: Советская энциклопедия, 1968. - 912 с. с илл.
Материал подготовлен начальником Отдела негативов и фоторепродукций с произведений изобразительного искусства НА РАХ Водостоевой Е.Н.