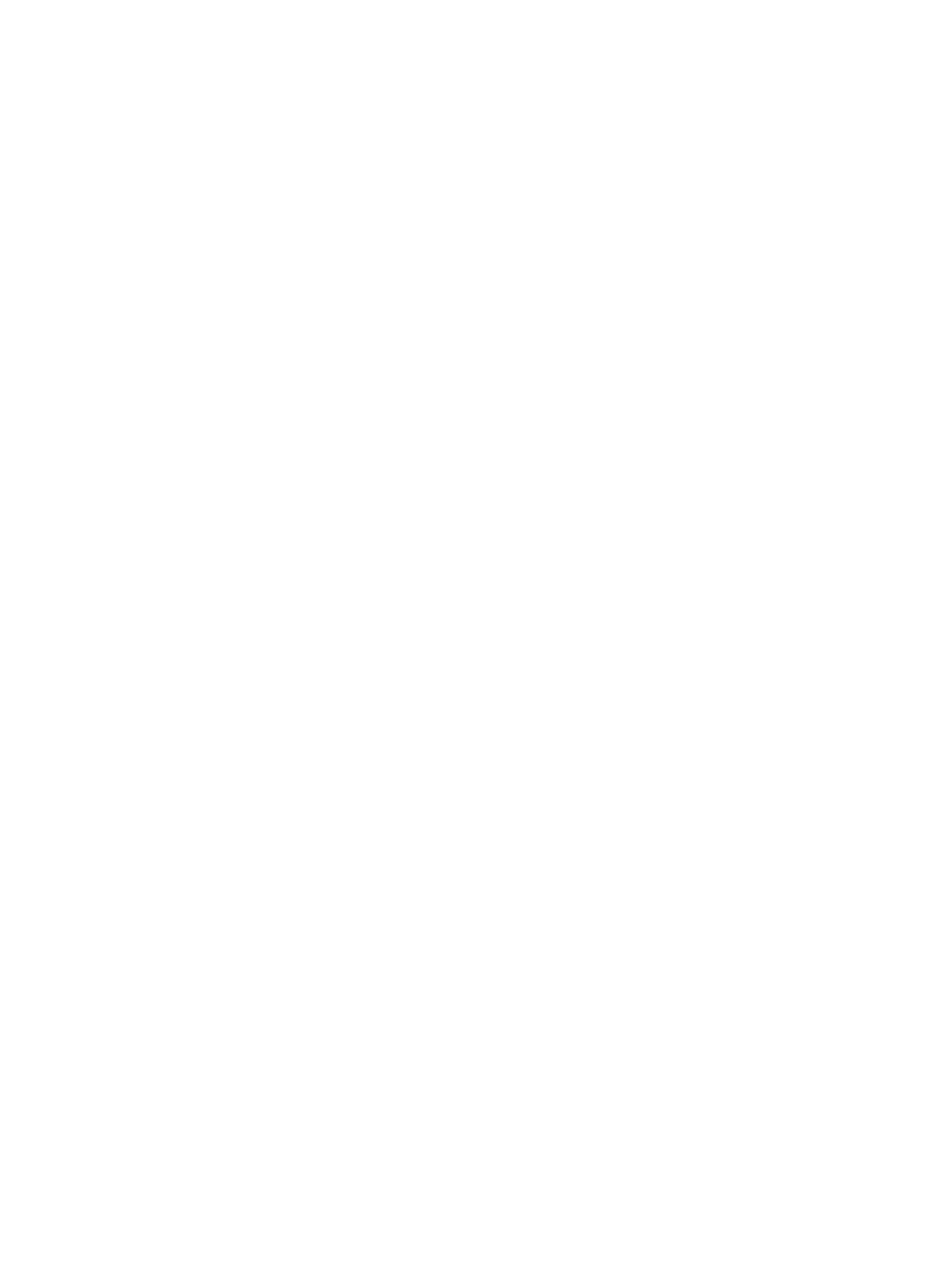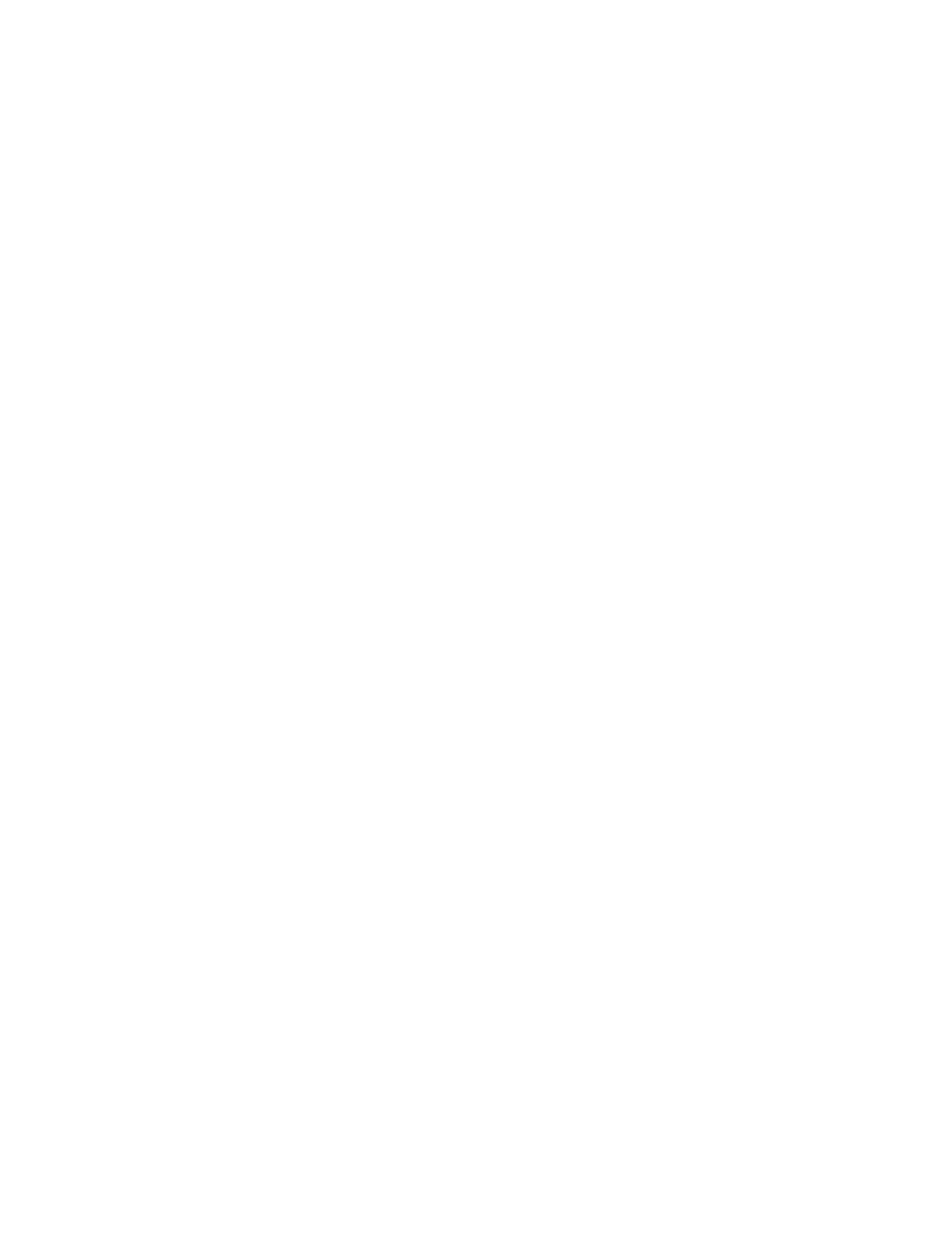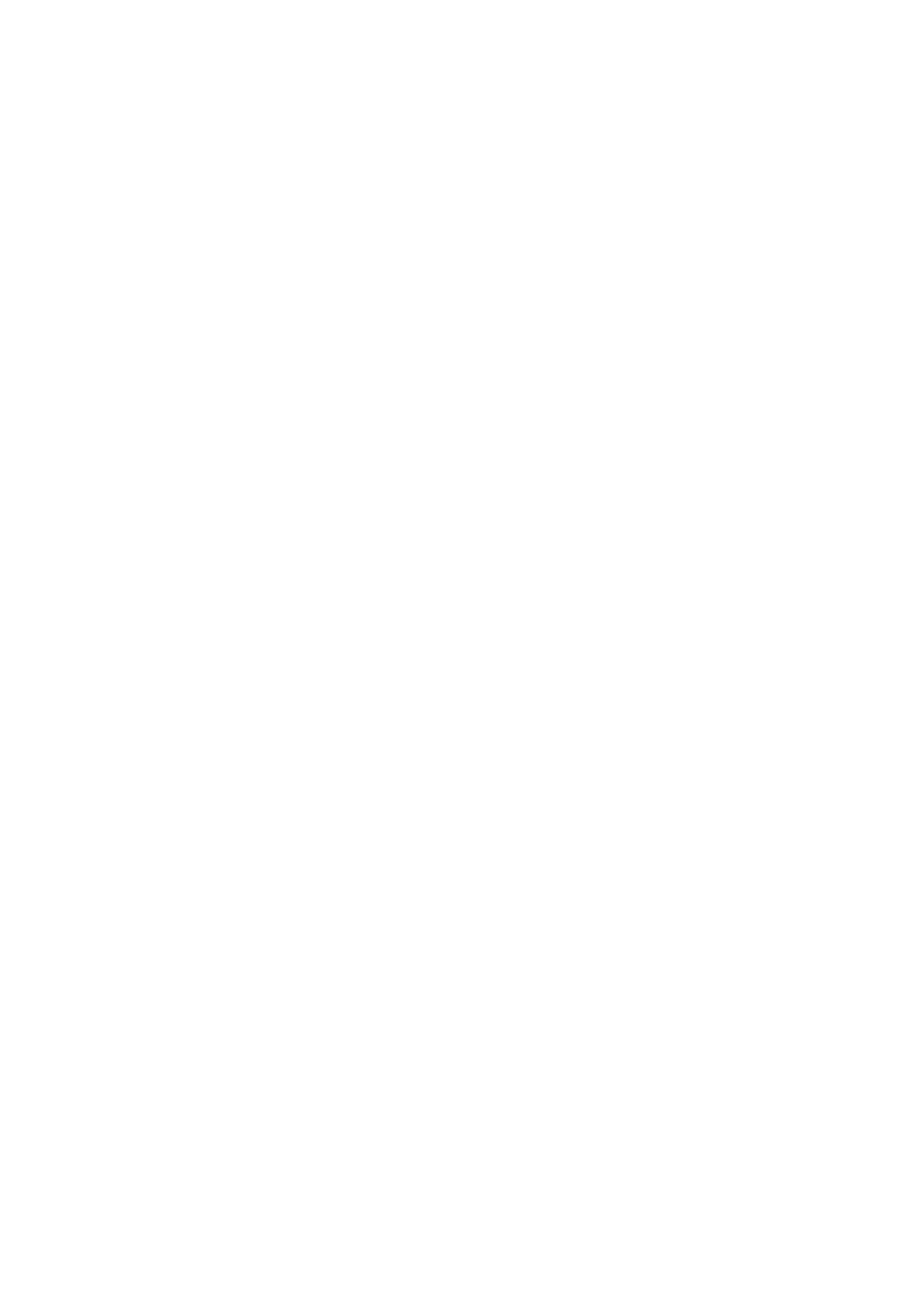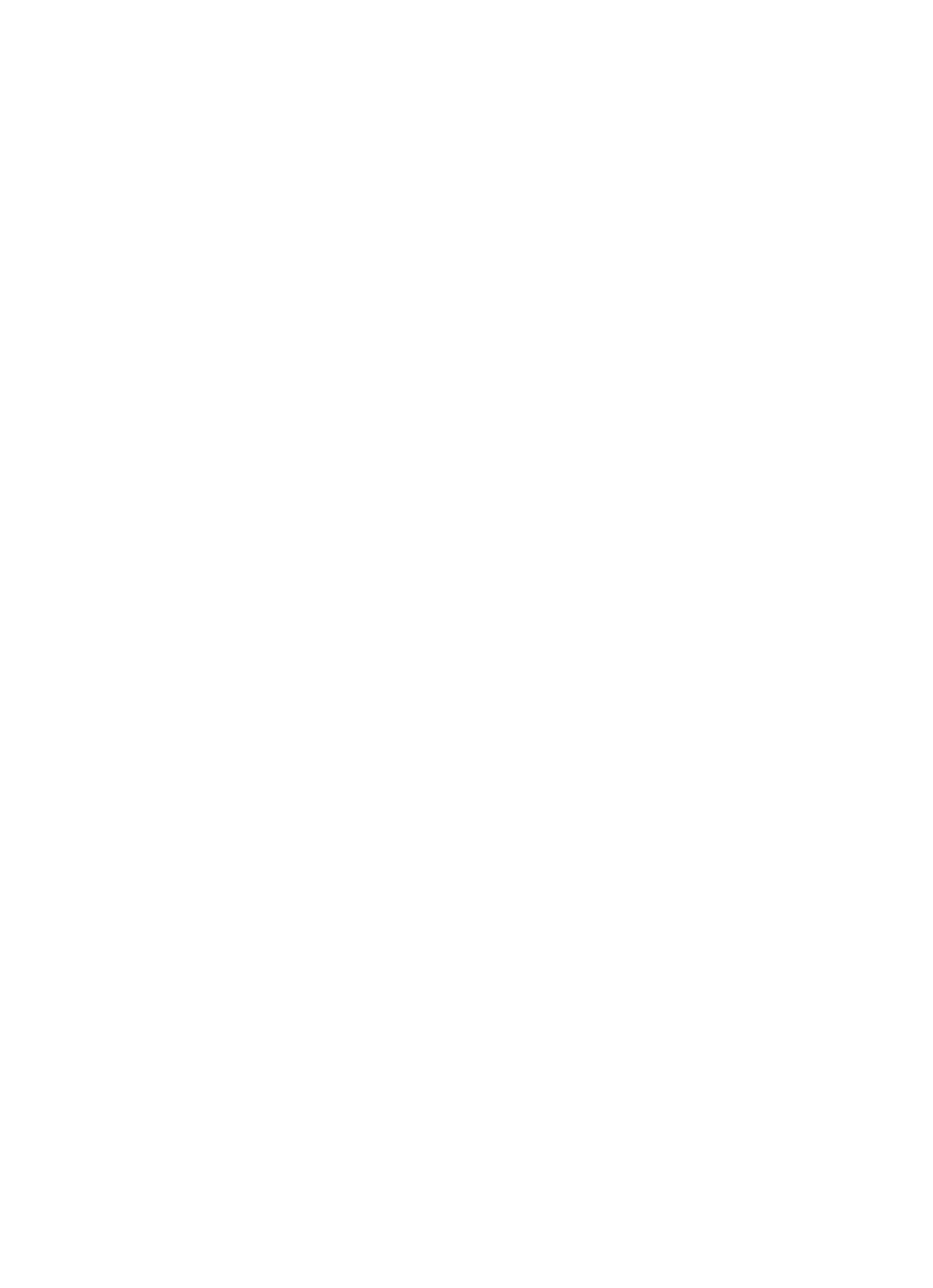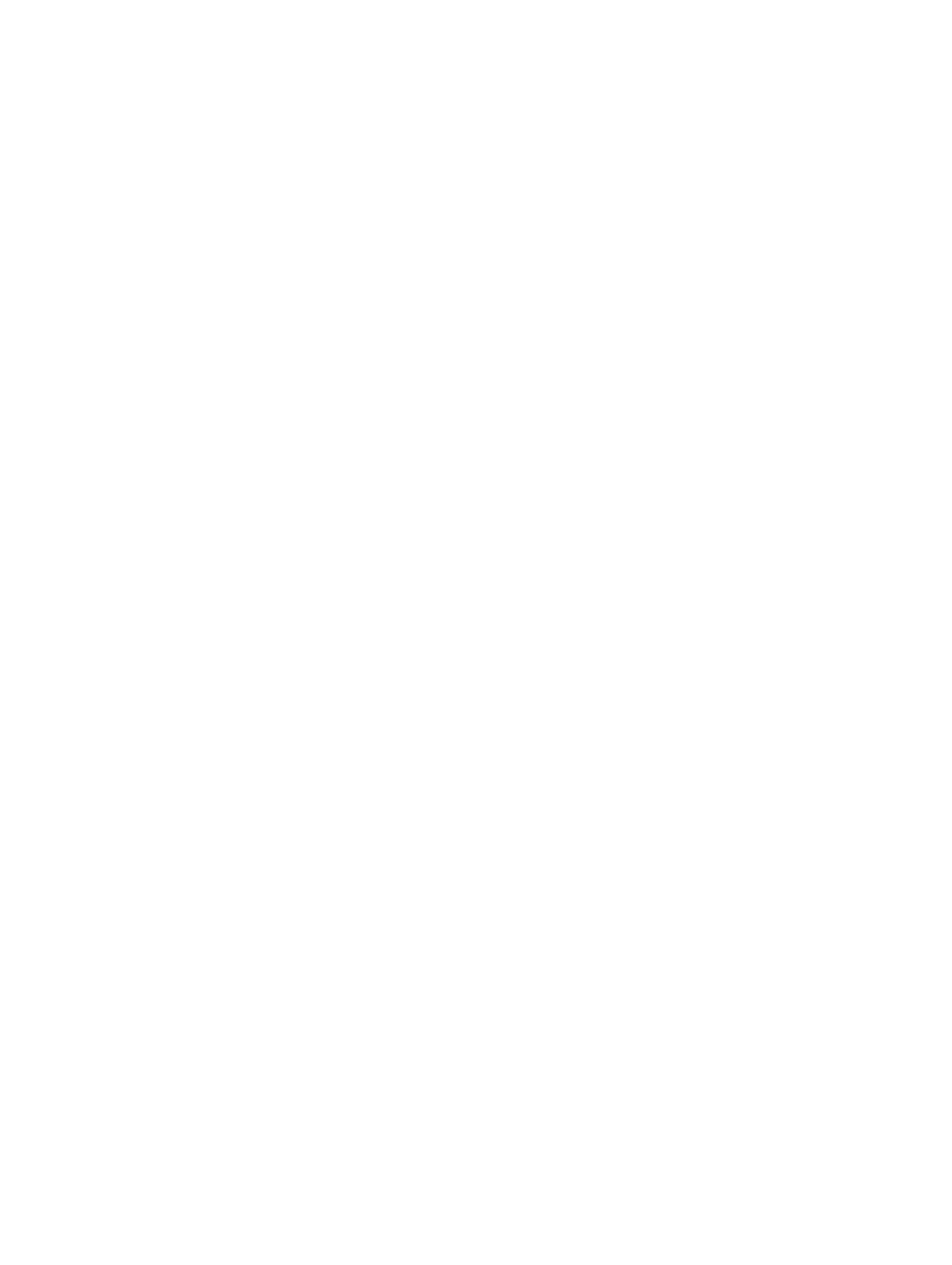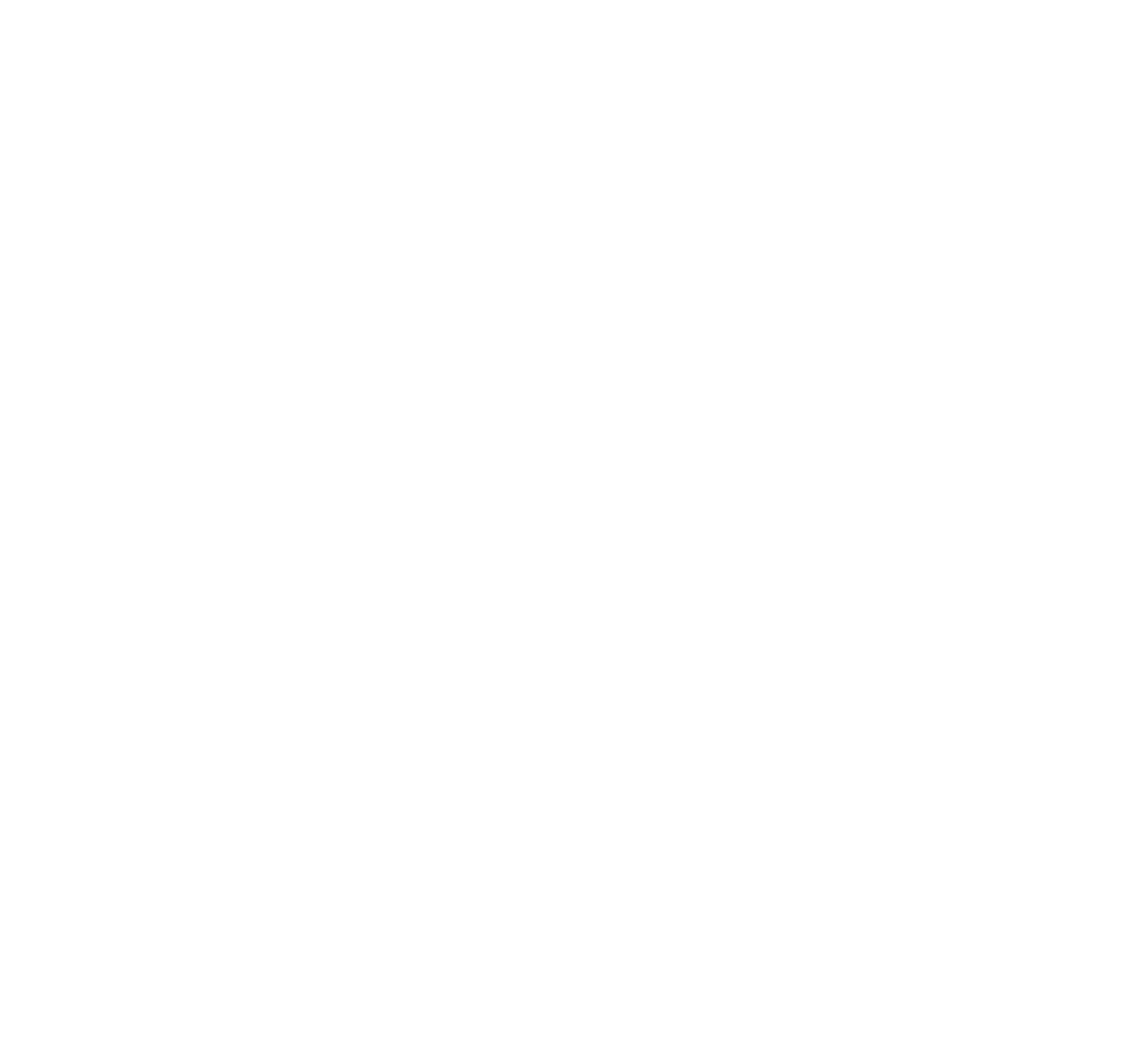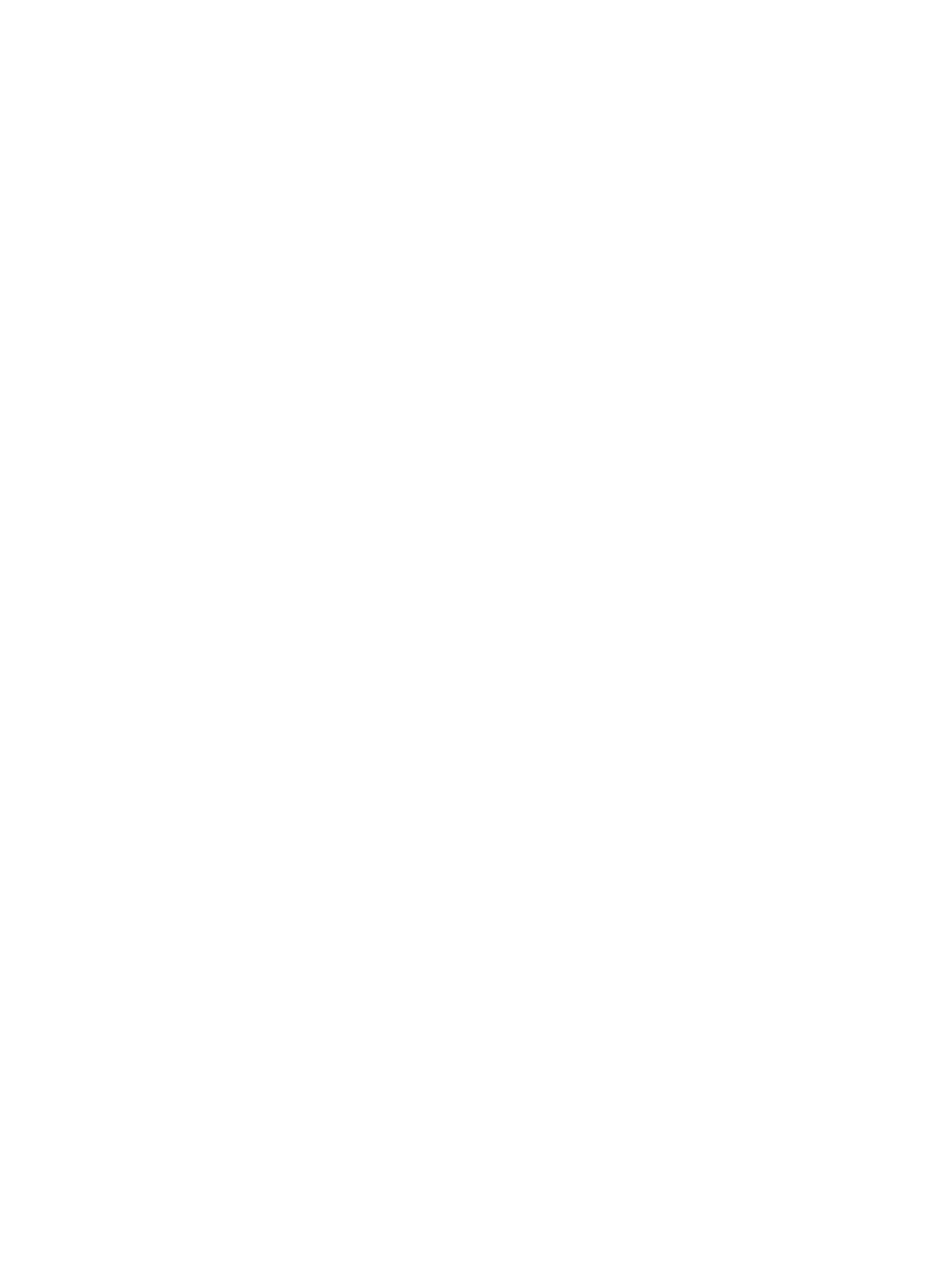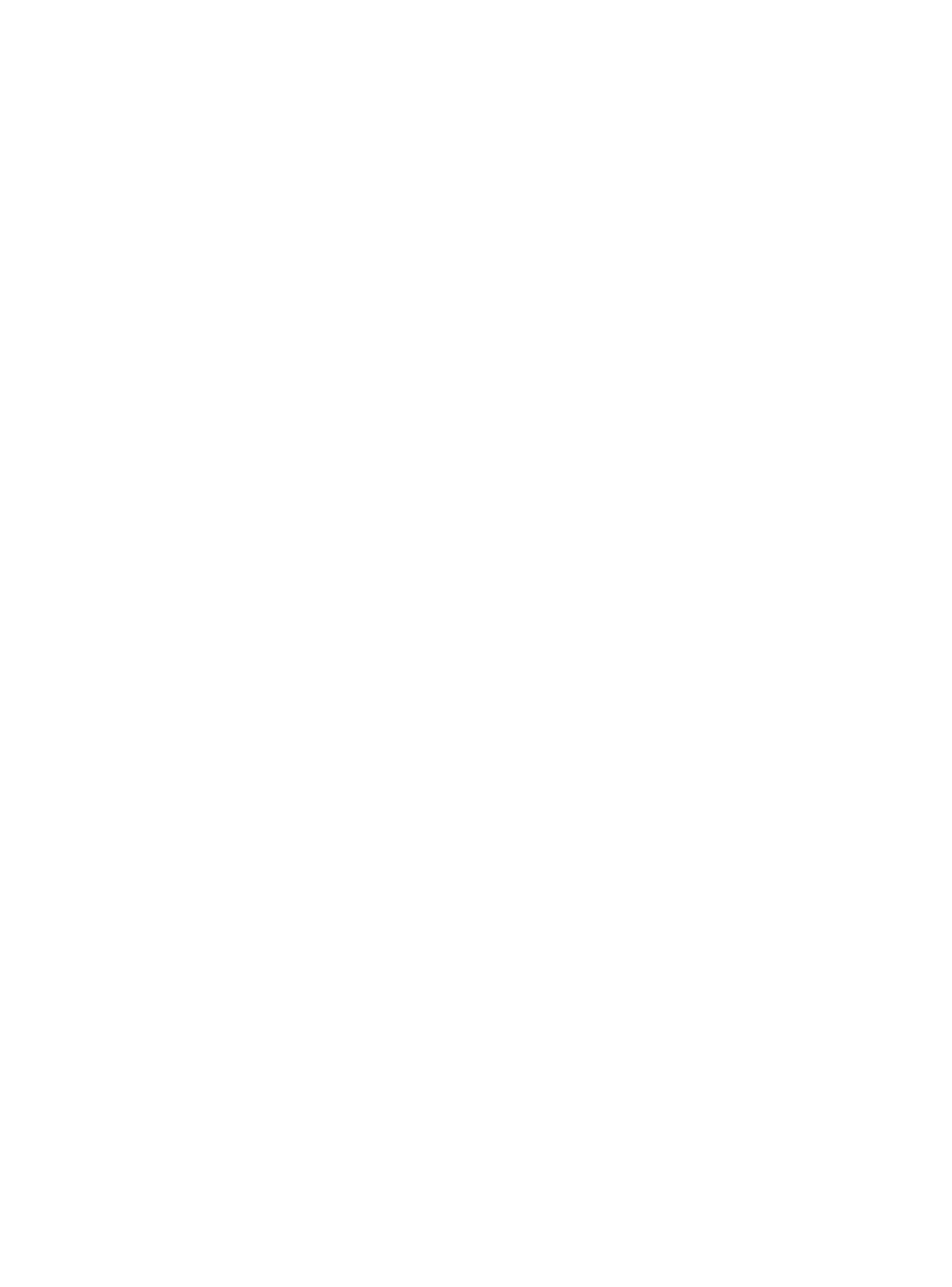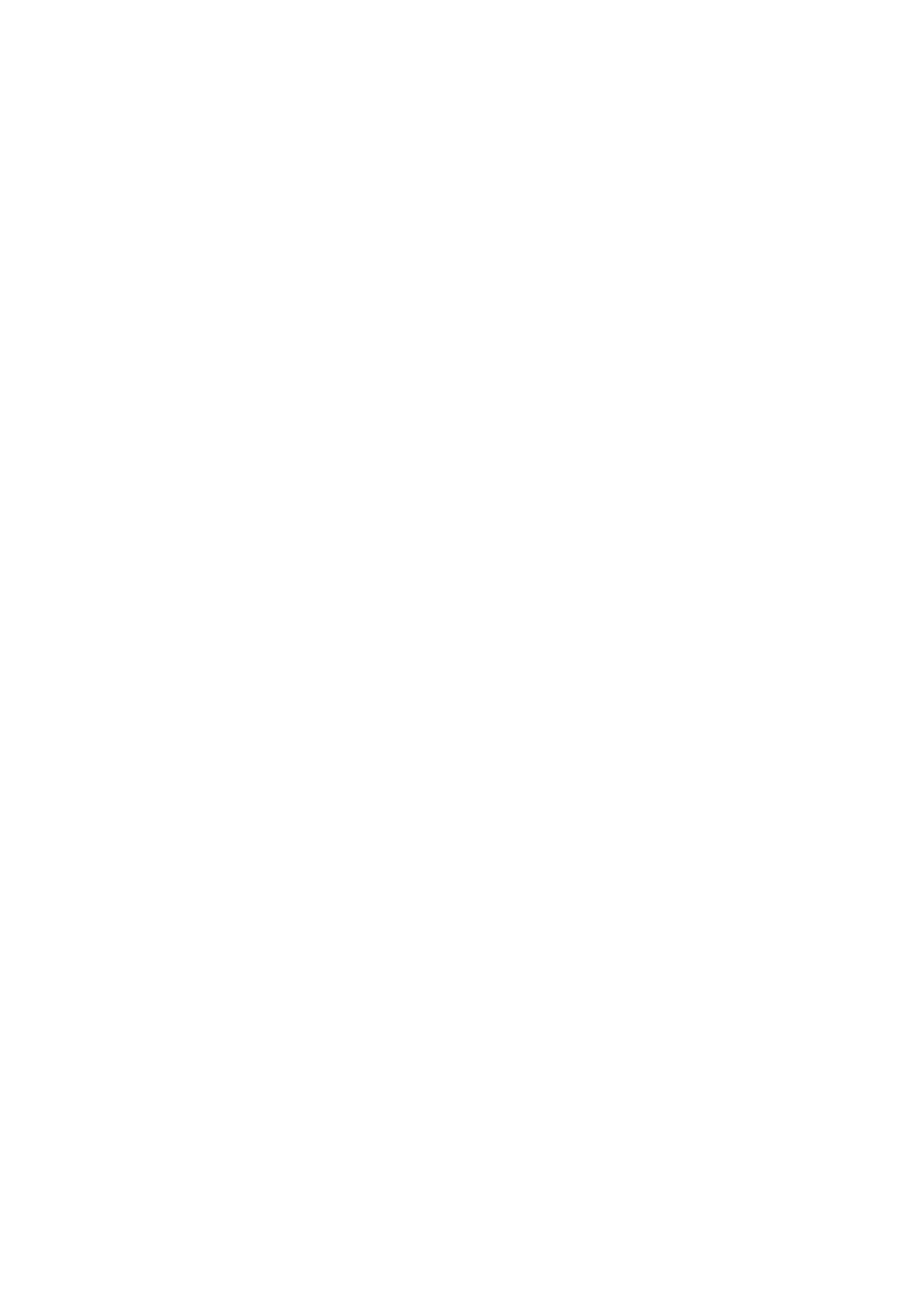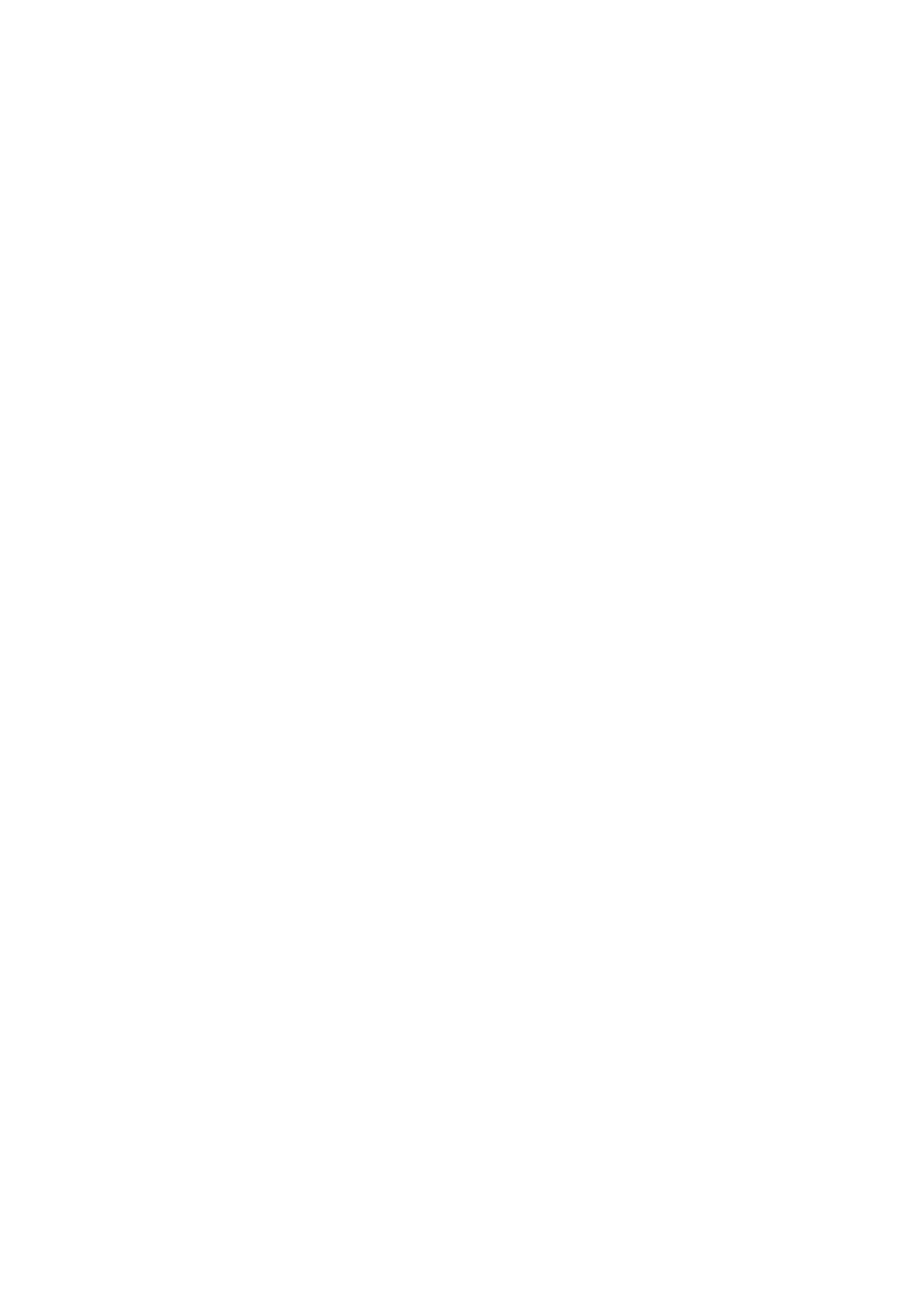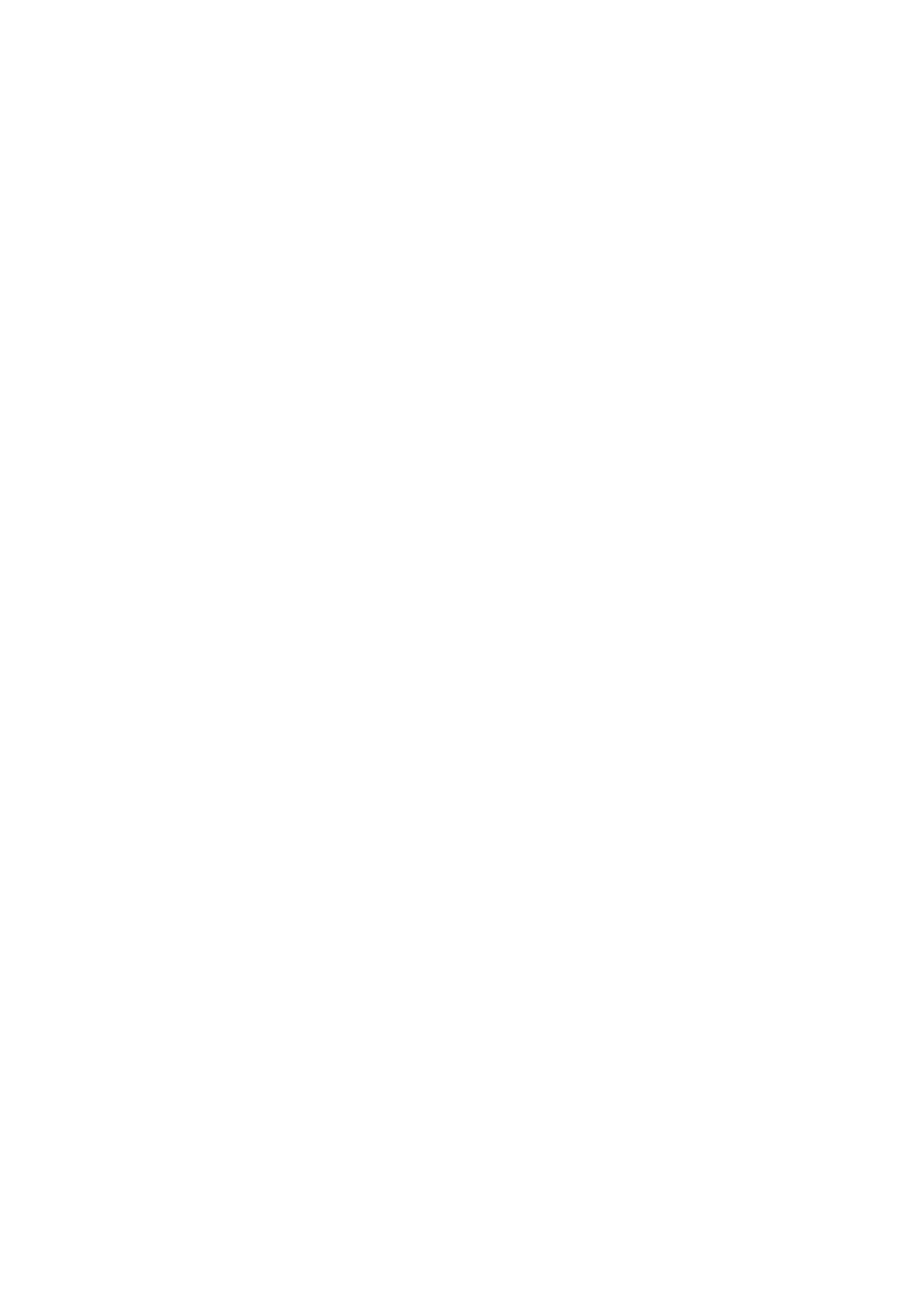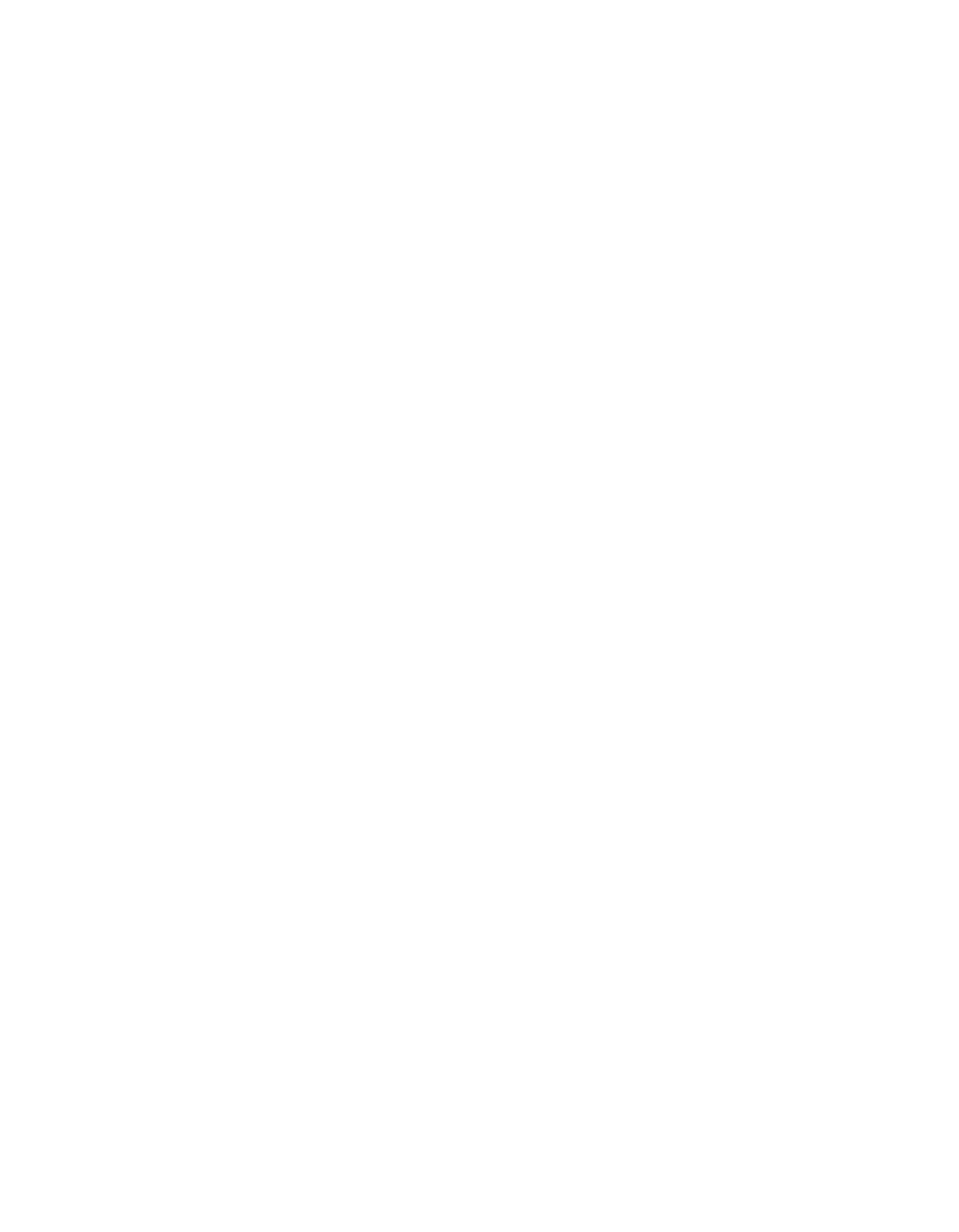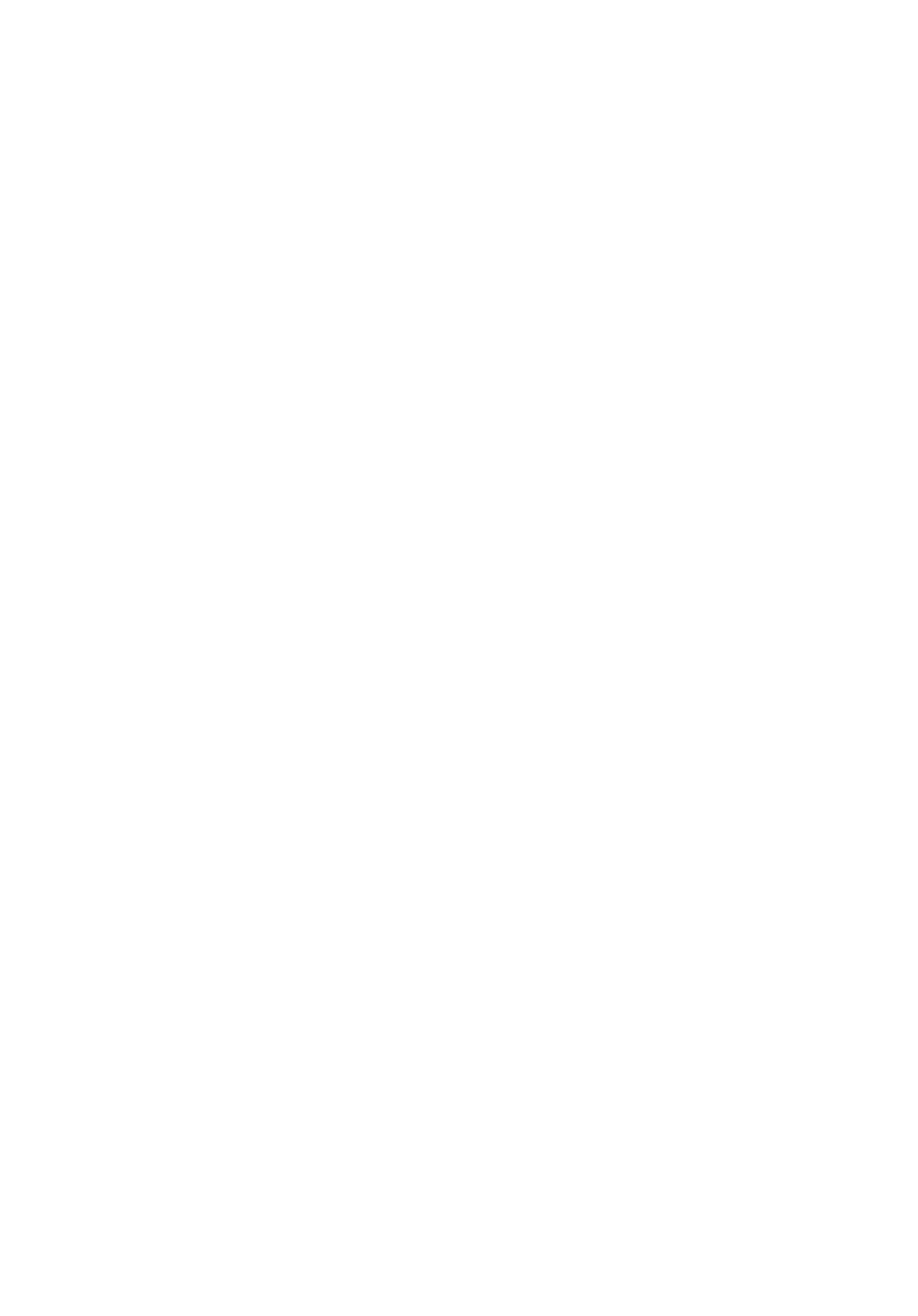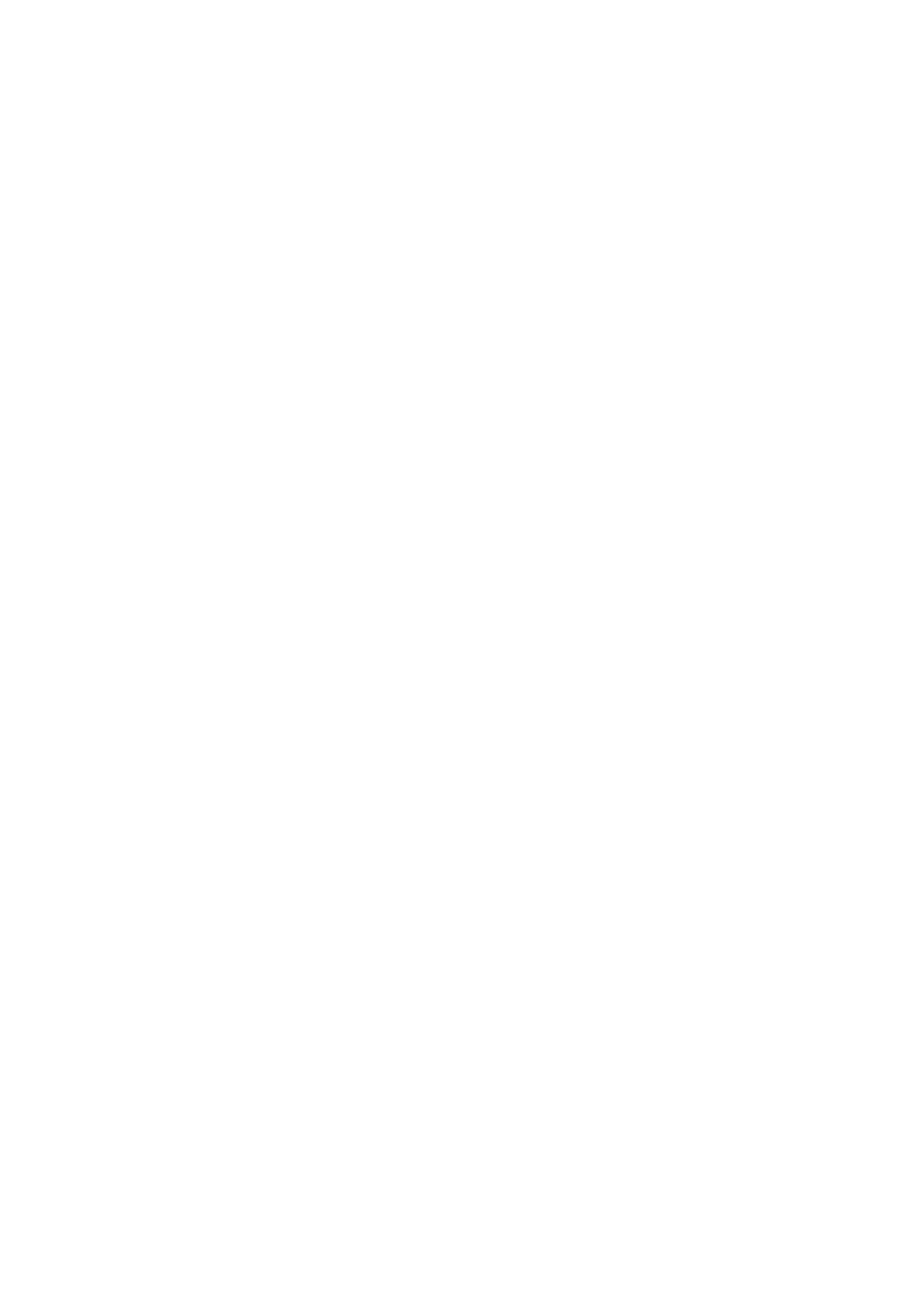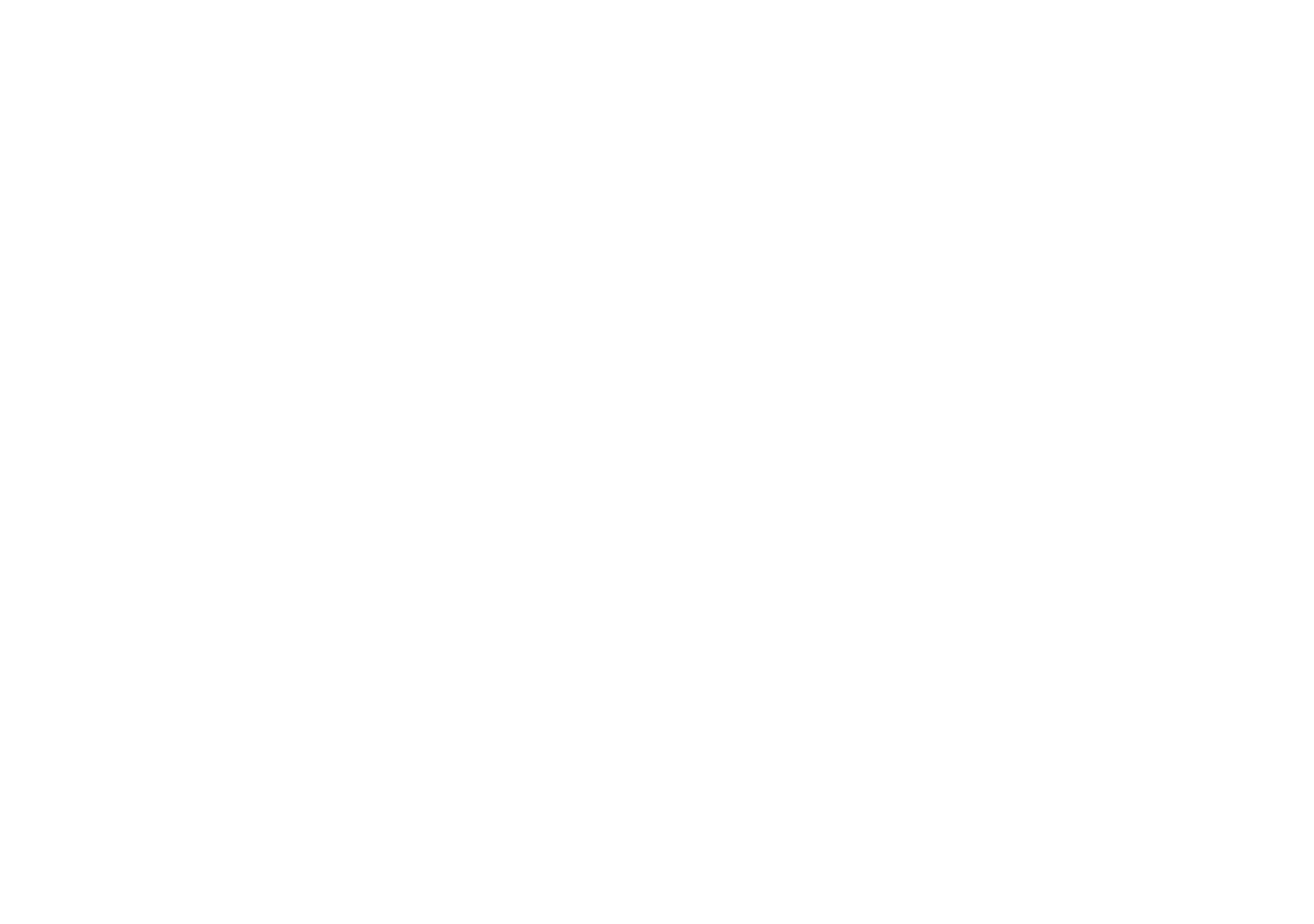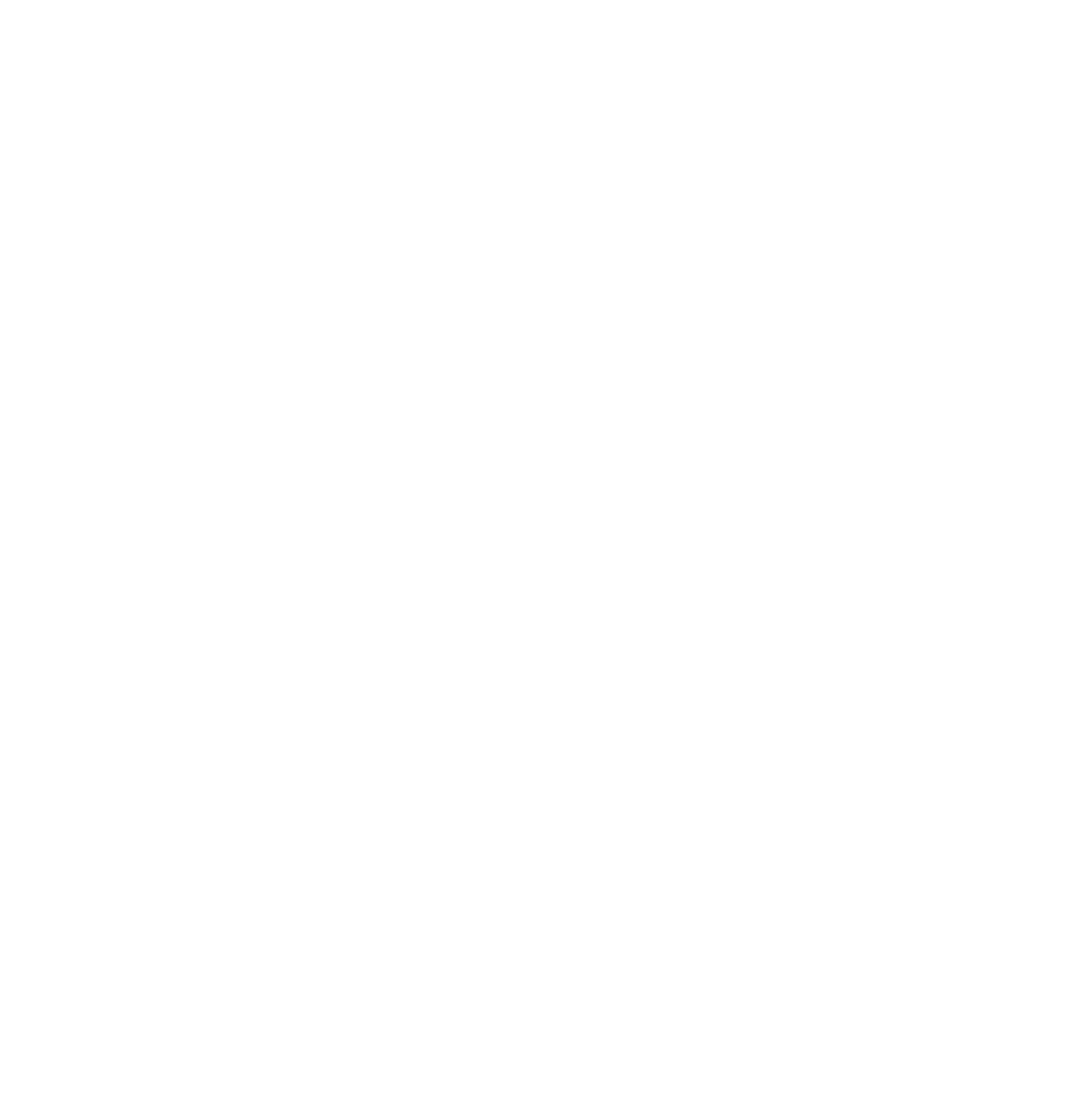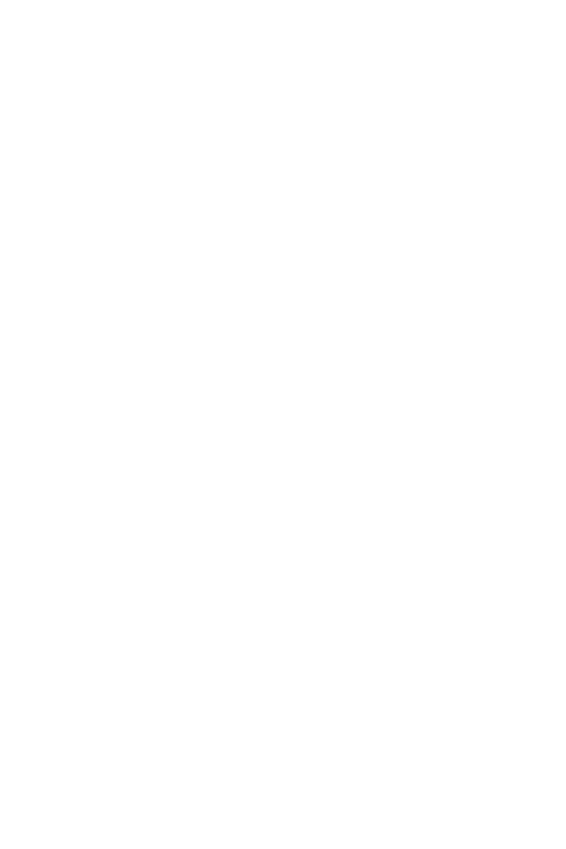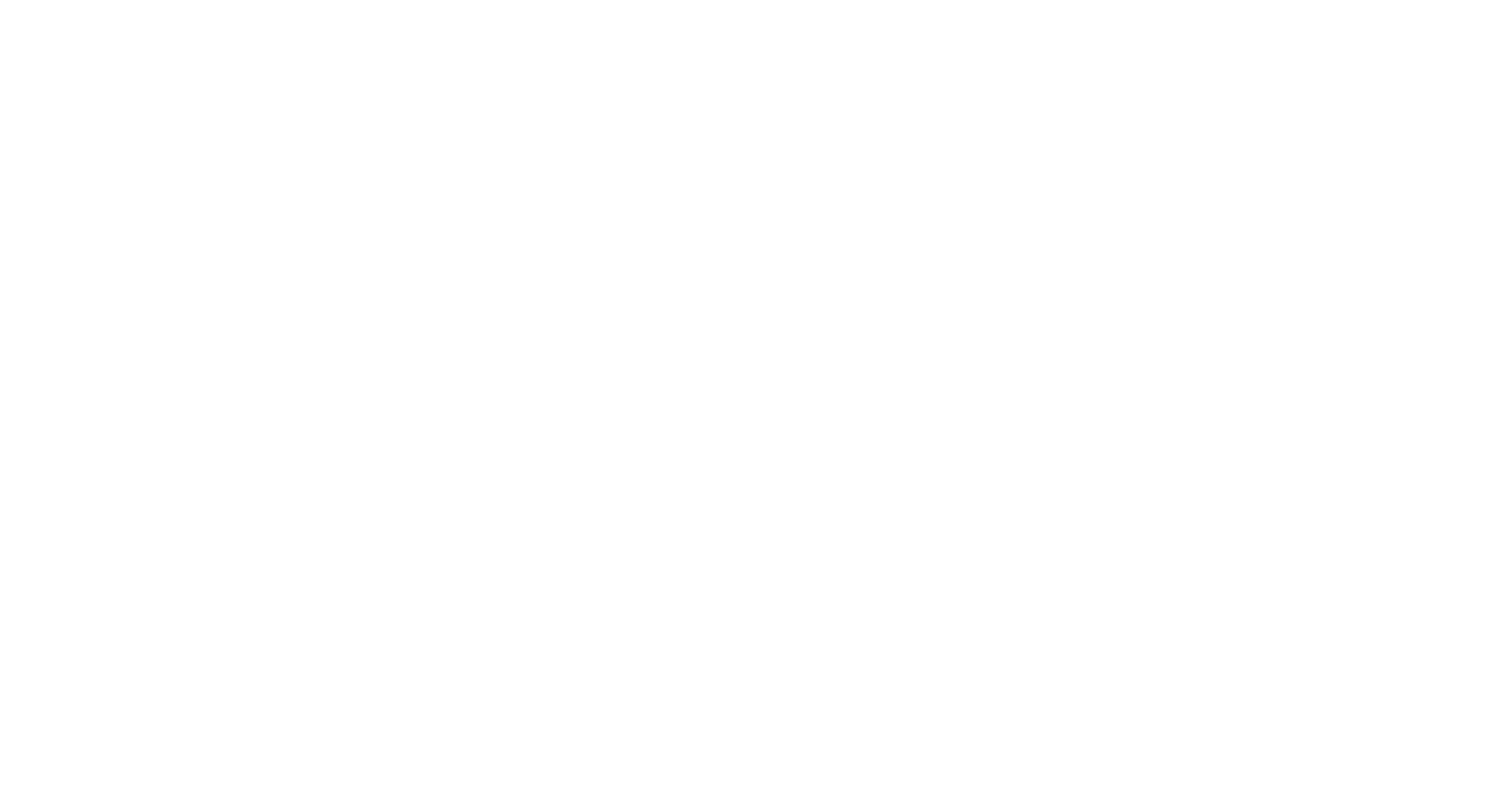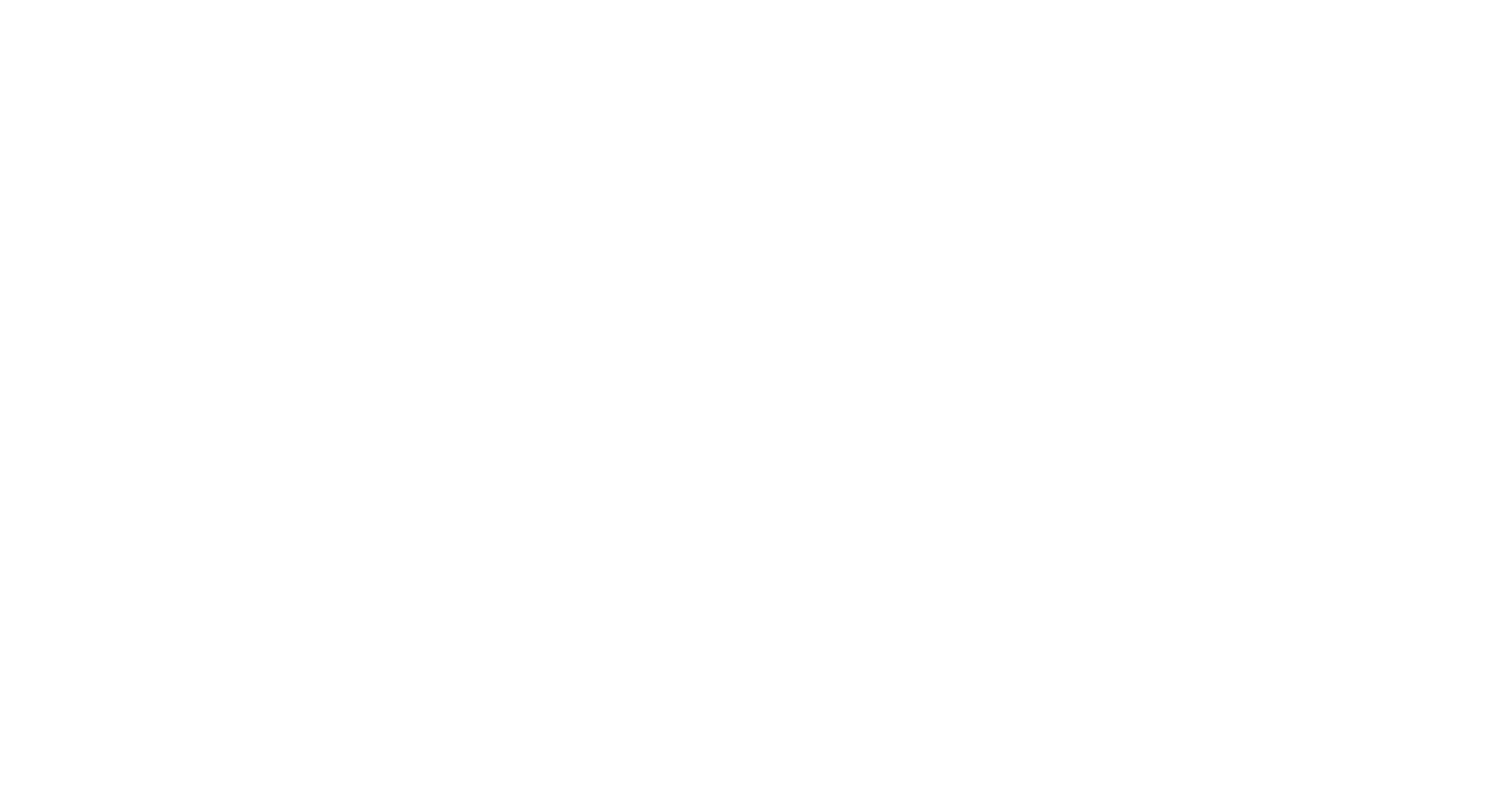Алексей Фёдорович Пахомов
Алексей Фёдорович Пахомов
родился 2 октября 1900 года в деревне Варламово Вологодской области в крестьянской семье. Каждую весну перед Пасхальной неделей отец мальчика развешивал по стенам дома лубочные картинки, выпускаемые типографией Ивана Сытина, которые в остальное время бережно хранились в сундуке. Это помогло уже в раннем детстве заметить художественные склонности мальчика.
При участии помещика В. Зубова, попечителя местной земской школы, Алексей Пахомов был направлен в Высшее начальное училище в город Кадников, а в 1915 году, на средства, также собранные семейством Зубовых, в Петроград — в Центральное училище технического рисования барона Штиглица. Там мальчик всецело погрузился в учёбу — ему было интересно всё: от научных предметов до теории теней.
В 1917 году училище было реорганизовано во ВХУТЕМАС, а в 1922 слито с Академией художеств, куда Пахомов перешел на 3-й курс, попав в мастерскую А. Савинова. В 1925 году он закончил живописный факультет Академии и был допущен к занятиям на факультете графики.
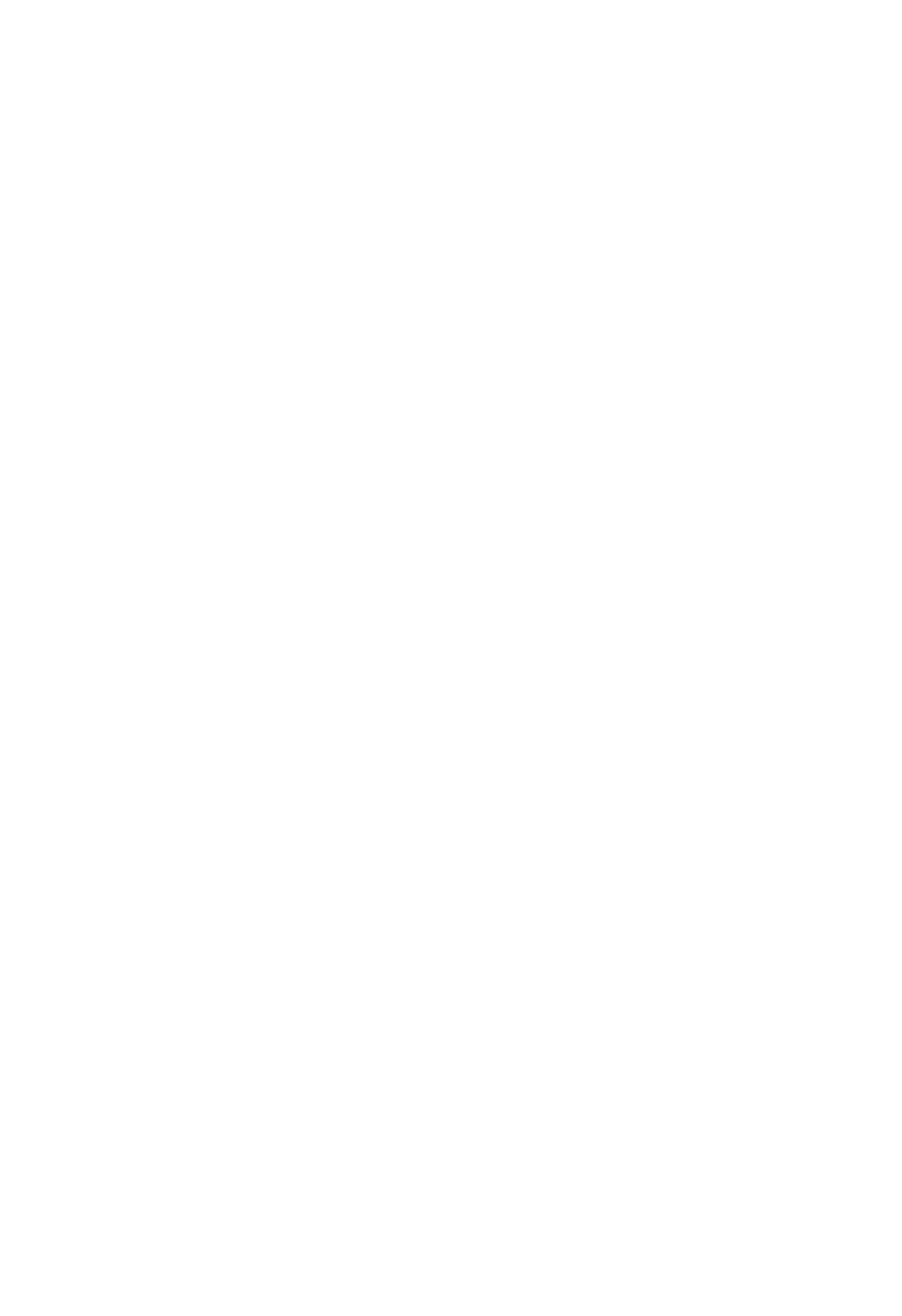
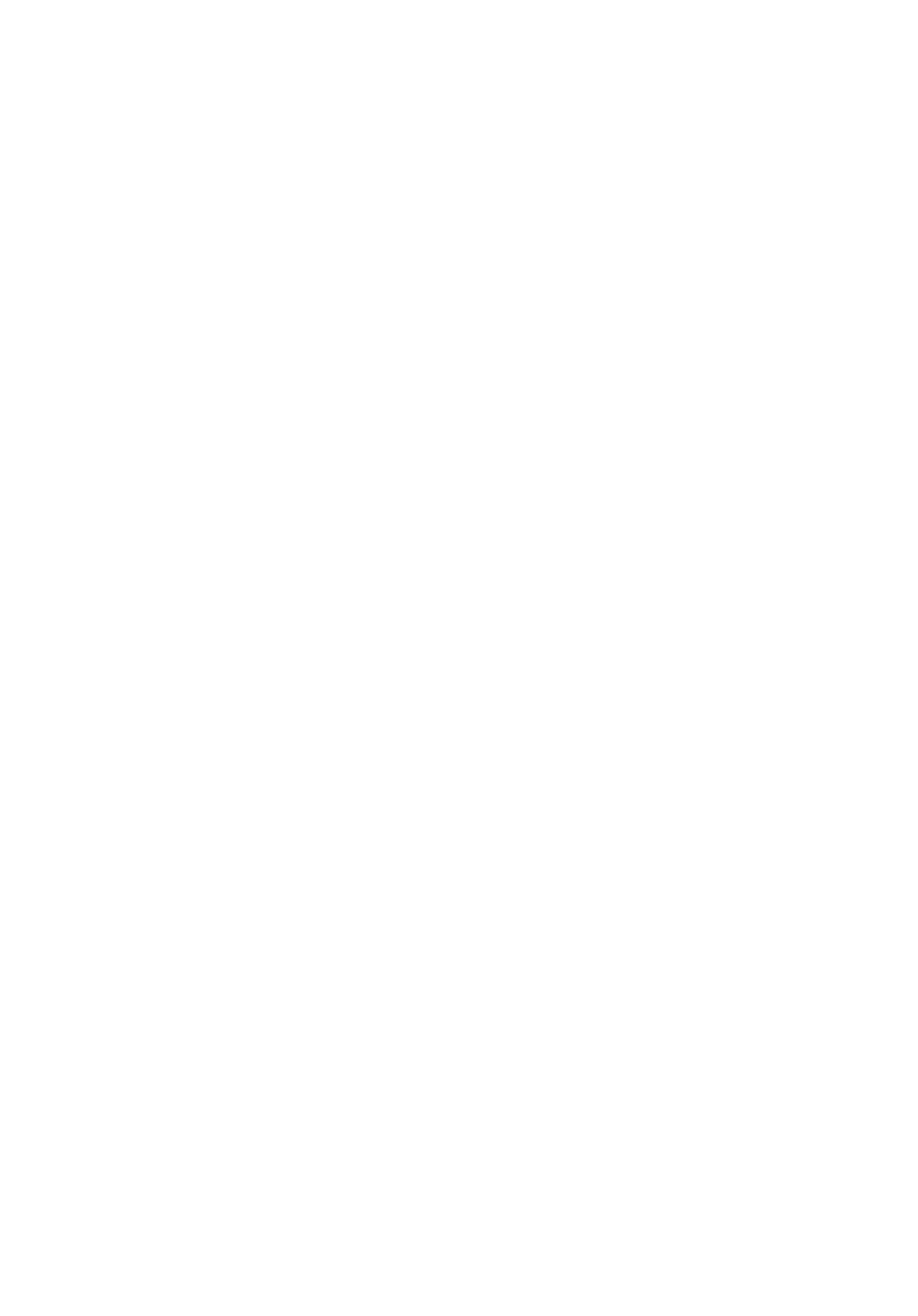
Учителями А. Ф. Пахомова были Н. А. Тырса, А. И. Савинов, С. В. Чехонин, В. В. Лебедев, В. И. Шухаев. Мастера-преподаватели и вся академическая система обучения в целом подверглись значительному влиянию авангардных течений, возникших в начале XX века. Пахомов не был исключением, но всегда возвращался к работе с натуры. Выполняя множество набросков и зарисовок, он считал карандашные эскизы подготовкой для более серьёзных произведений. Но и Н. А. Тырса, и В. В. Лебедев считали, что подобные рисунки, выполненные в творческом порыве с натуры, передающие пластику поз и движений, могут быть самостоятельными произведениями искусства, и убедили в этом Алексея. Детские рисунки, привезенные им из дома, также получили единодушное одобрение наставников. Это во многом определило дальнейший стиль художника.
В 1921 году А. Ф. Пахомов был принят в «Объединение новых течений в искусстве» и в том же году участвовал в выставке объединения. Также входил в «Круг художников», основанный студентами К.С. Петрова-Водкина.
Это были любимые мои книжки, хотя я тогда не был ребенком, а был начинающим художником, и они были для меня очень большим стимулом в работе.
... Все творчество Пахомова шло непрерывным потоком и было окружено очень обостренным вниманием всех работающих графиков Москвы и Ленинграда. Оно всегда служило платформой для дальнейшего движения и развития нашего искусства, советской графики в целом, развития эстампа, развития книжной иллюстрации.
Рисунки к «Азбуке» Толстого, которыми занимался в послевоенные годы Алексей Федорович, являются для нас, художников, удивительным примером удивительного свойства Пахомова: рисуя с натуры, он ищет всегда композиционно-пластическое, ясное решение. Его вещи — никогда не суммирование отдельных этюдов, а это всегда органически задуманная с очень твердым пластическим костяком организация жизни, которую он увидел, понял — и не зафиксировал, а построил по неумолимым законам человеческим и психологическим».
Д. А. Шмаринов.
Иллюстрация в журнале "Ёж", 1930 г. НА РАХ. III-8187.
В 1925 году на выставке дипломных проектов в Академии художеств Пахомов представил работы «Сенокос» и «Красная присяга». В том же году в Государственном издательстве был образован отдел детской литературы под руководством С.Я. Маршака и В.В. Лебедева, куда Алексея Федоровича пригласили работать. Обращаясь к теме крестьянского быта, он создавал иллюстрации, совершенно не похожие на существовавшие прежде сентиментальные картинки.
В те годы литографская печать не располагала техническими средствами для воспроизведения карандашных рисунков. Перед художниками стояла задача создавать изображения из полностью или почти полностью закрашенных цветных плоскостей. И только в 1936 году, с появлением офсетной печати, вышла первая книга с карандашными иллюстрациями Пахомова — «Школьные товарищи» Самуила Маршака. С этого времени художник сосредоточился на карандашной технике, оттачивая мастерство.
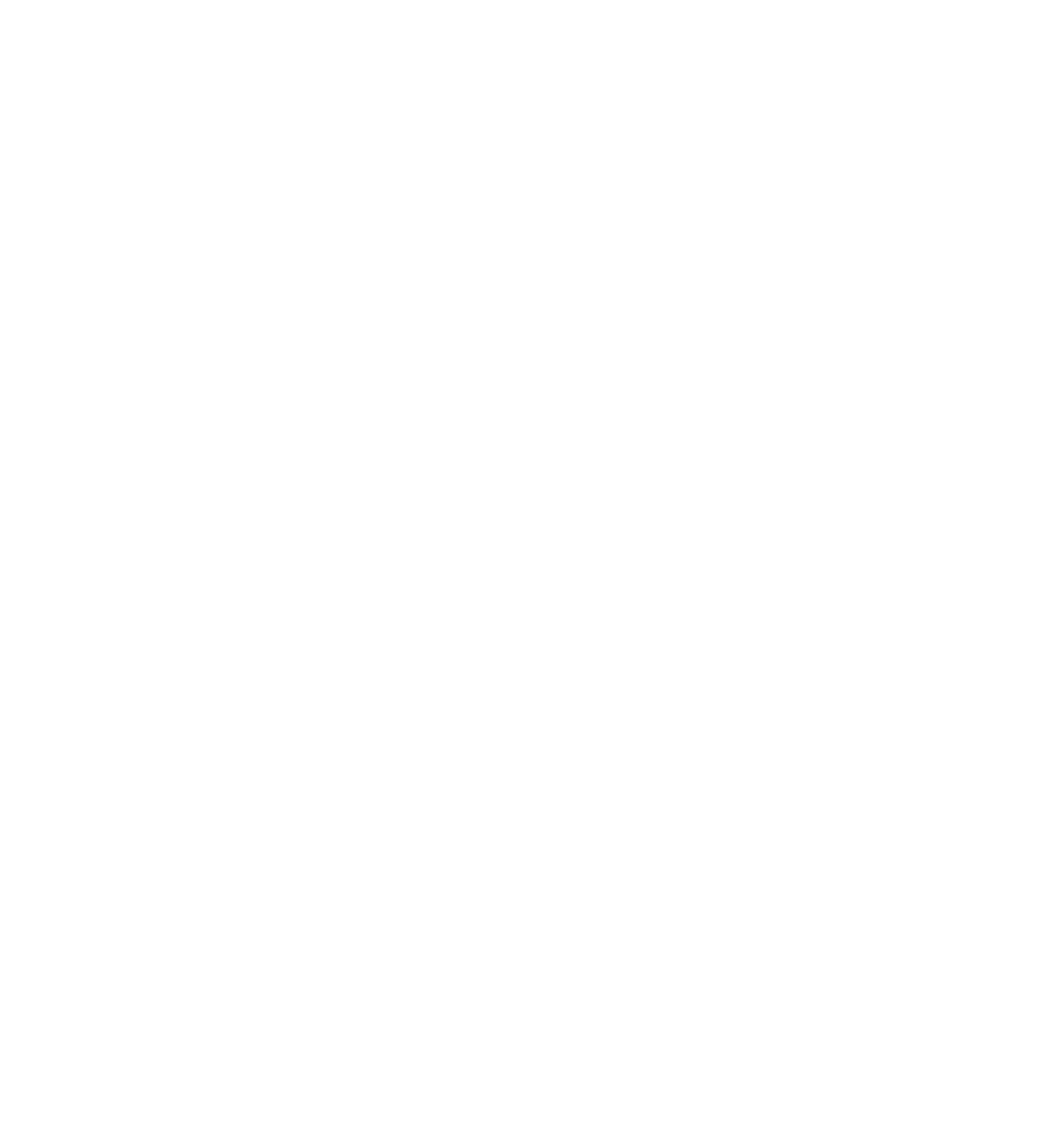
Е.А. Кибрик
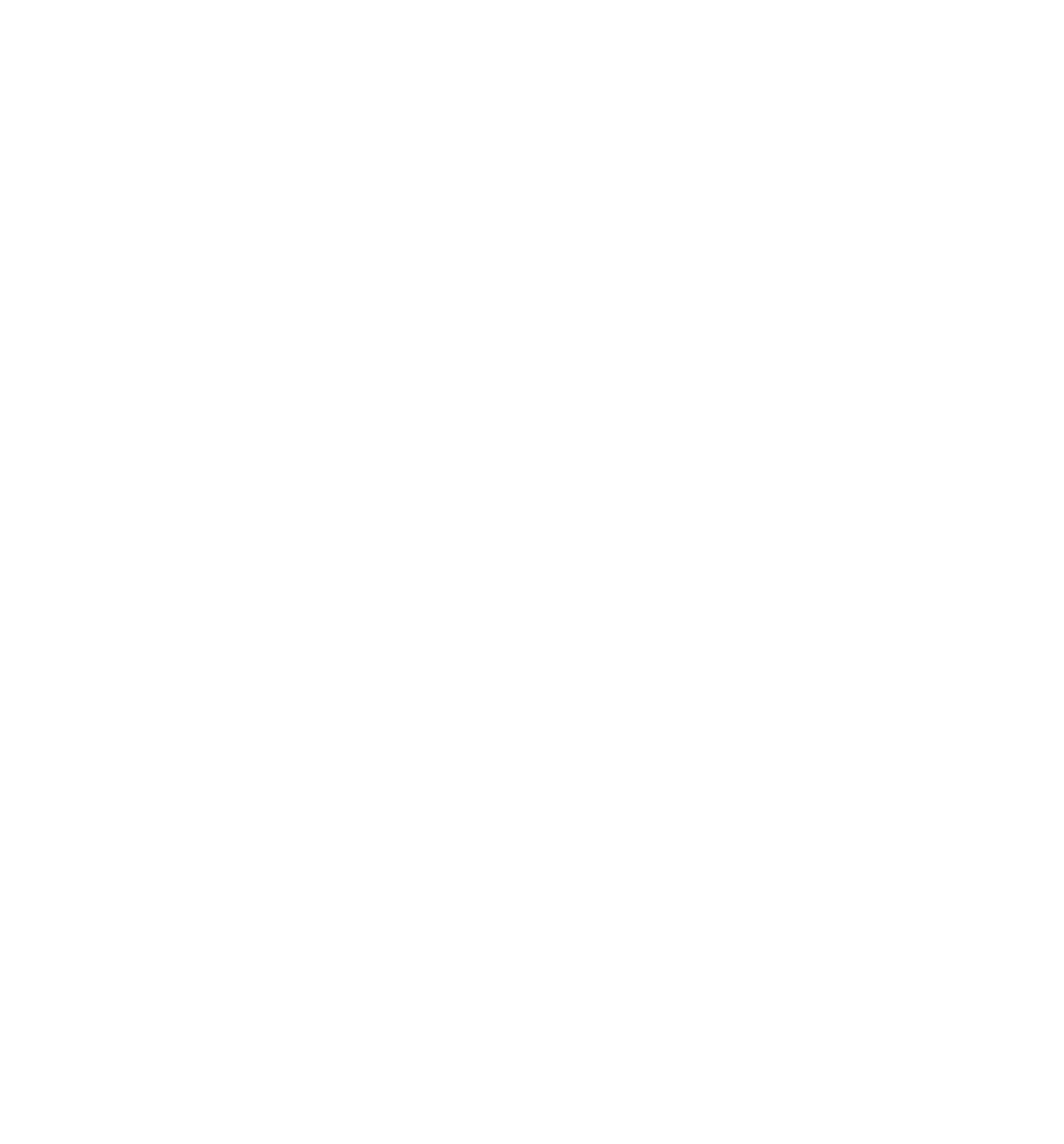
23 февраля 1936 года, в День Красной Армии, А.Ф. Пахомов был приглашен в седьмой детский сад Петроградского района. Этот визит позволил ему лучше понять детское восприятие праздника: «Если точно нарисовать только ребят с картонными лошадками, получится как-то уж чересчур бедно. Будет недоставать главного — детского воображения. И кавалеристы, и зрители-дети убеждены, что это настоящая кавалерия в большом пространстве настоящего взрослого мира… И вот я решил внести в игру свою инициативу — изобразил ребят не на полу, а на мосту из детского строительного материала. Поставил на мосту деревянные столбы и поместил под мостом уток, рыбок парусную лодку. Рисунок, как мне кажется, зазвучал, получил тот наивно-трогательный, шутливый характер, который имела игра в действительности», — писал художник.
Рисунки были изданы Лендетиздатом ЦК ВЛКСМ отдельной книжкой под названием «Наш отряд» со стихотворными подписями С.Я. Маршака.
Сейчас, через 16 лет, рисунки «Нашего отряда» мне кажутся во многом профессионально слабыми, с воспитательной педагогической стороны книжка устарела, но одно качество этой серии рисунков для меня и сейчас является заповедью: рисунок не должен остаться случайной зарисовкой, он должен давать правильное понятие о явлении во всей совокупности».
НА РАХ. Ф.52. Оп.1. Д.2.Л.6об,7об.
НА РАХ. III-8166.
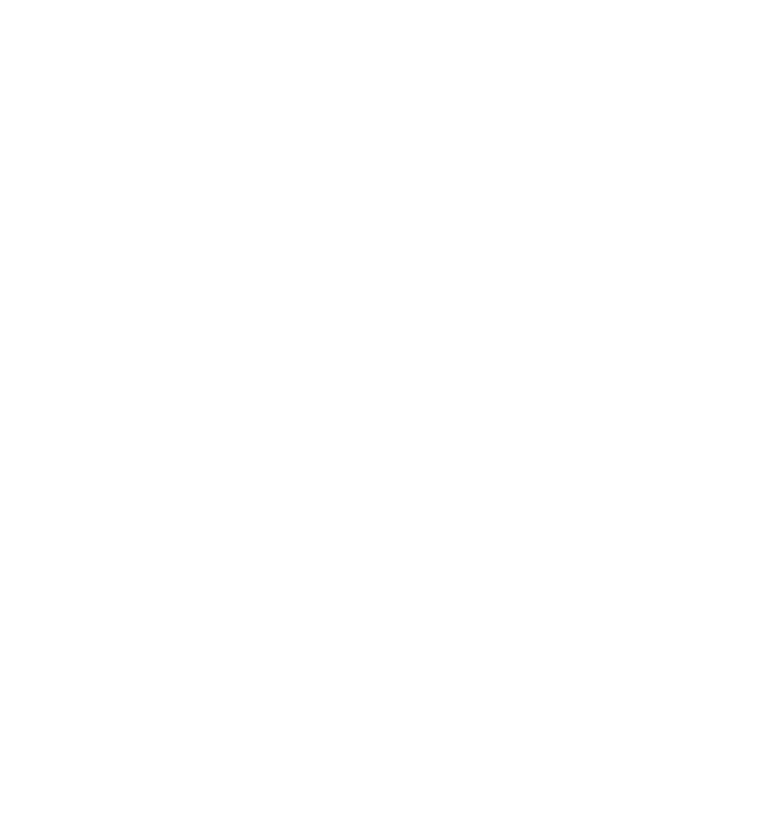
С конца 1930-х Пахомов все чаще прибегает к зарисовкам с натуры, стараясь передать колорит времени в пластичности и певучести карандашного рисунка. Так, например, иллюстрации к «Рассказу о неизвестном герое» С. Маршака изображают знакомых художнику людей: это молодежь, живущая с ним по соседству, участковый милиционер, пожарные из 10-й пожарной части Петроградского района, а главный герой рассказа срисован со студента Института физкультуры им. Лесгафта. В одном из пожарных А.Ф. Пахомов даже изображает самого себя.
Э.Д. Кузнецов
А.Ф. Пахомов, 1956 год
НА РАХ. Ф.52. Оп.1. Д.8.
... То же и в многочисленных книжках для детей, иллюстрированных А. Ф. Пахомовым за многие годы... Как много в них замечательных по выразительности образов детей и взрослых!
Мне как-то сказали: «Зачем Алексей Федорович в детских книжках расточает эти перлы глубоких характеристик образов, как это он делает в рисунках для взрослых? Вряд ли это дойдет до детей». На это я ответил словами Чехова, которого спросили однажды, как надо писать для детей. «Так же, как и для взрослых, — сказал Антон Павлович, — только еще лучше». Так поступает и А. Ф. Пахомов».
В.М. Конашевич.
Познакомиться с личным фондом Алексея Федоровича Пахомова (фонд №52) можно в читальном зале Научного архива.
Материал подготовлен начальником Отдела негативов Водостоевой Е.Н.